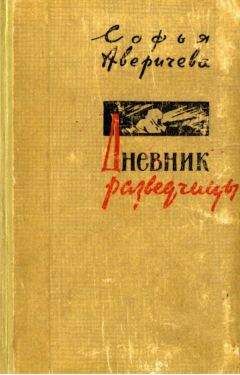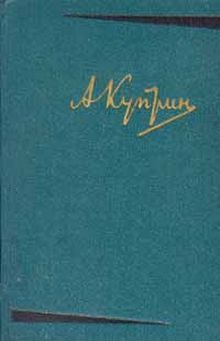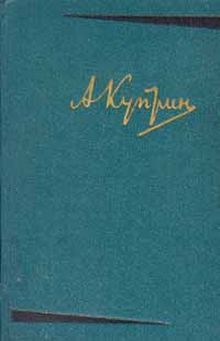Софья Федорченко - Народ на войне
Стоит столб, на ем слова, а прочесть я не в силах. Дороги за столбом разошлись, вот и иди куда знаешь. Сел, стал сказку вспоминать. А по сказке-то той куда ни кинь — все клин, куда ни глянь — все дрянь. Я и пошел без пути, посередке, да еле из трясины и выбрался. Чем сказки-то сказывать, лучше бы грамоте выучили.
Смотрю, ровно бы огонек мрежит. Я и попер прямиком, через пень-колоду. А огонек все на той версте мрежит. Так я до свету шел, и все зря. Вот и скажи, что без лешего.
В голове твоей бор темный, вот в том бору так леший! А коли свет в башке, так на свету всякая нежить выдохнет.
Кто в городу пожил, знает, что такое наука. И как она людей на верх ставит. Хоть бы дом большой, городской. Высок в гору, красив, велик, ровно село большое, строят же его простые, неграмотные. Ползут по постройке той мурашами, кладут камни по чужой указке, нету им в глазах дома того красы и ладу. А выстроил мужик, набил себе за то брюхо кашей, от дома того отвалился да за избой своей курной с...
А живут-то в этом дому только ученые люди.
Больно тело свое работой перетружил. Отработался, руки-ноги ровно гири, на безделье не поднять. Мозги так совсем отвыкли, не утруждаются, заматерели. А с войной-то самое время пришло голове кланяться...
Мы ужли не научены, а вот те, что из плена вернутся, те и нас многому учить будут. Из каждой овцы — вышли мудрецы... На каждой на дубине — ягода-малина...
Он те околдует... Больно готов наш брат... Изобижены, унижены, хуже зверья живем... Всё ждем, кто научит, вот и слушаем... Эх, кабы они муки не принимали, больше б им верили, а то за ним не идешь, боишься... Зато объявить — ни боже сохрани...
II. ЧТО НА ВОЙНЕ ПРИКЛЮЧИЛОСЬ
На какой голос ревет, на какой голос поет,
На тот на голос, что смерть дает.
Приди, человек, до полсудьбы,
Приди, солдатушко, до полубоя,
Как и бой не бой, людям убой,
Как рвет и землю, и дерево,
И солдатское тело томленое.
Во соседнем селе белы рученьки,
Во чистой реке победна головушка,
Во густых хлебах быстры ноженьки.
Во глубоком рву ясны оченьки,
А как кровь тепла во сырой земле,
Во сырой земле, во чужой стране.
Что поднялось! — ровно суд страшный... Нельзя не покориться, а и покориться — душа не терпит... Нету рассудку ни краюшка. Теперь помнится, а то: гром тяжкий, снаряды ревмя ревут, рвутся, у нас раненые вопят... И целые-то волчьим воем воют от смертного страху... Нету того страха страшнее... Куда идти?.. Не идешь, в кучу сбились... Молоденькие криком вопят, по-зверьи... Взял он револьвер да ко мне: «Вылезай». Я назад напираю, земляков куча... Я — карабкаться, а он в меня выстрелил чего-то... Не попал, только все шарахнулись и в атаку полезли.
Эх, до чего плохо было! Как первая повозка дошла, слез Семен Иваныч, бабе говорит: «Собирайся, детей собирай и вещи что понужнее, выселяют вас». Баба оземь, голосит, сапоги целует. Народ собрался, услышали, по селу, словно гром, плач такой. Сразу все говорят и плачут все. Кто головою бьется, кто волосы рвет, а старуха одна телку вывела, за шею обняла, голосом воет, и собаки тоже с ей душу рвут... Ну, стали потом силом сажать — не уговорить. Так босые все, а дождь да грязь и холодно... До чего плохо было, самое трудное...
Я повылез, слышу — дышит, как на бабе... Я повылез подальше да кажу тихонько: что ты тут, сукин сын, а он — хр... хрипит. Я боюсь — кричу, а он боится — хрипит. Я к нему лезу, а он ко мне... Доползли, а кровь из ноги горячая, сам я холодный... Рукою его за шею — щуплый... Ищу, может, где близко ранен... Верно, пальцами в грудь залез... Он, чисто как свинья зарезанная, орет... Я его за горло давлю — тоже мокро, а все, чтобы горше, по груди рву... Замер, как заснул, а я на нем... До утра. Утром рано, саднит нога — чисто смерть, а голова, чисто водою налита, гудит... Не вижу, не слышу, как подобрали — не помню... И что это, братцы, чи я того проклятого удушил, чи он сам по себе помер?.. Рассуждаю, что не грех, а больше по болезни-слабости снится.
Что здесь плохо — многие из нашего брата, нижнего чина, сон теряют. Только глаза заведешь, ровно лавку из-под тебя выдернут, летишь куда-то. Так в ночь-то раз десять кричишь да прокидываешься. Разве ж такой сон в отдых? — мука одна. Это от войны поделалось, с испугов разных...
Чудно мне здесь перед сном бывает, как устану. Ровно не в себе я. Ищу и ищу я слово какое ни на есть, нежное только. Ну там цветик, али зорюшка, либо что другое, поласковее. Сяду на шинель да сам себе раз десять и протвержу то слово. Тут мне ровно кто приголубит сделается, и засну тогда...
Долго ли я лежал, не знаю. Звезды, идти надо, я ползком на горку выбираюся. За горою, знаю, немцы. Ракеты все слева, и то рад. Ползу, слышу разговор ихний. Смотреть — ничего не видать. Только совсем близко огонь всполохнул. Здоровый немец машинку разжег, кофий варит... А дух, господи... Думаю, коли б этого — вот хорошо бы... Слюны полон рот... Я ползу, а он сидит, ждет кофию, на огонь засмотрелся... Смотри, смотри... Сзаду навалился душить скоренько. Молча сдох, с испугу, видно... Я за кофий, пью, жгусь, тороплюсь... Взял машинку да каску с собой унес...
Хорошая кобыла была, как жену, любил, просто заржет, и мне охота... А налетал с утра... Ну тут с месяц, как свет, так нету покоя... Ни работать нельзя, ничего нельзя... и то нельзя... Грязь в земле развели ровно свиньи... Налетит со светом, кружит и бомбы бросает... И песок-то, и грязь, и гул, и жарко, чисто пекло... Лошадей по-за кусты. Артиллерия по им жарит, а стаканы к нам в обоз. Собирали начальникам, сестер одаривали. Цветы держали и все говорили: красиво, что цветы, а она смерть причиняла... Вот и кобылке смерть причинила... Как его угораздило, только слышу — ржет кобылка, весело ржет... Думаю: что это она радуется? Да к ей... а она и глазом не ведет, мертвая... Это она как в памороке была, что хорошее и представилось...
Голод выучит... Я вот дите при дороге спящее ограбил... Спит дите, чье — не знаю. Никого поблизости. Ихнее потерялось. Замученное, спит при дороге, и хлеб под головами... А я хлеб взял, сперва разломил... А потом подумал — не помирать же бородатому... А в дите жизнь легкая... Да весь хлеб и унес.
А, как выскочил я — направо Алешка, налево Петренко. Кричим, бежим, упали... Зарываюсь, так быстренько стараюсь, а кругом пуля визжит... Вскочили, бежим. Алешка бежит, а Петренки нету... Думаю: «Как его убили, так и меня убьют; как его убили, так и меня убьют»... И чего это такая думка пришла, не знаю, а все думаю одно это... Добежал и сильно работал штыком, лиц просто не видел... Невредим вернулся... Глотка до того охрипла, три дни хрипел, с крику сорвал. В глазах туман белый, только сквозь него все и виделось, тоже дня три... А Петренку убили...
Легли мы ровно на пружинах Слава господу, лежа-то было. А как встали — затянуло в трясину двоих. Сам слышал, как Иванова кобылка на той трясине губилась. Стонет, ровно мычит тихонько, и слыхать было, как кости с натуги хрустели, не вызволилась...
На его глазах братишку австрийцы убили. Сердце в нем кровью засохло... Как зверь стал... Целый день сидит выжидает, чтобы австриец нос показал,— сейчас стрелять, и без промаху. Обед ему принесут, так денщика с ружьем ставит, чтобы и минутки врагу милости не было... И до солдат облютел...
На полке хлеб, в избе пусто. Я хлеб за пазуху — да и драть. Как заорет баба караул, как повыскочат ребята да гвалтовать, как заверезжит собачонок, ну просто аппетиту решился и хлеб бросил.
Он в глаза не глядит, а так неспешно идет. Вижу — сейчас будет меня насмерть убивать. И что делать-то? Коли не он меня, так и у меня ружье на взводе. Тут уж кто кого. Я и выстрелил. Он еще шагов сколько-то на меня — и в землю.
Вот ты это так говоришь, потому что глаз его не видел. Кабы в предсмертные-то глаза глянул — ночью бы чудилось. Я эдак-то, почитай, с полгода как чумной ходил: как глаза на сон заведу, так мой убиенный в глазу да смотрит.
Я с Семеном вдвоем пошли, а барана несем по очереди. Не мешает: живой, а не противится. Но, однако, устали, сели посидеть, не заметили, как уснули. Сплю, слышу — Семен меня тихонько окликает: немцы коло нас... Как не было сна. Сижу, в ночь темную, словно сова, смотрю, ничего не видно. И слыхать ничего не слышно, окромя как со страху в уши ухает... Немного продохнул, слышу: правда немцы... А я еще, как из дому шел, плену пуще смерти зарекался... Кто его знает, как баран наш развязался, да через кусты шварк, да шуму наделал. Со страху-то — словно гром прошел. Уж тут ли тебе скотину жалеть, господи... только как вскочит мой Семен, да за бараном, да за кусты, да сгинул... А немцы за ним, да стрелять, да далече, слышу, гонят... А я драл в другую сторону, бег, бег, на солдат наших к утру дорвался… А Семена так и нету... Горя сколько, семейство. Вот те и баран!