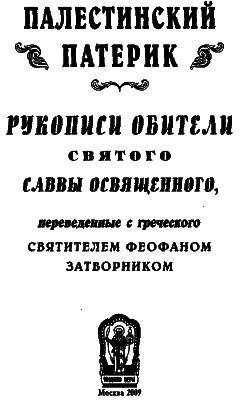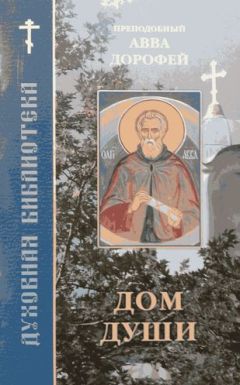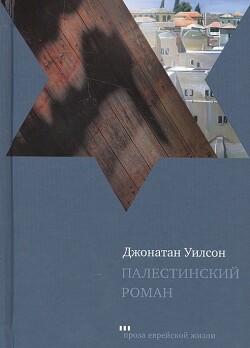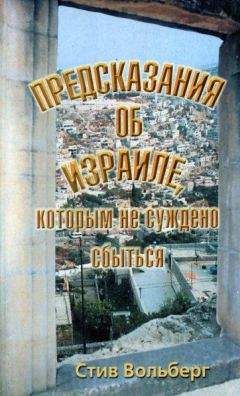Израильско-палестинский конфликт. Непримиримые версии истории - Каплан Нил
Наиболее известные примеры подхода упущенных возможностей представлены, как я уже отмечал, в трудах новых историков, которые в большинстве своем считают израильских лидеров виновными в том, что после войны 1948 г. было упущено множество шансов прекратить конфликт. Это видно, например, в раннем исследовании Ави Шлаима, посвященном сирийскому лидеру Хусни аз-Заиму, а также в более поздних его работах «Сговор через Иордан» (Collusion across the Jordan) и «Железная стена» (The Iron Wall) [557]. В частности, Шлаим и другие новые историки критикуют израильское руководство за то, что оно не приложило достаточно усилий к преобразованию ограниченных соглашений о перемирии, подписанных в 1949 г., в более обширные и прочные мирные договоры и не пошло навстречу предложениям арабской стороны. Они приводят архивные свидетельства, указывающие на то, что и Давид Бен-Гурион, и даже такие «голуби», как Моше Черток/Шарет и Абба Эвен, принимали сознательные решения, направленные на удержание захваченных в ходе войны территорий, и не желали идти на сделку, которая предполагала бы переговоры о цене, которую (побежденные) арабские государства запросили бы за подписание мирного договора, — то есть об отводе войск от линий перемирия к границам, предусмотренным одобренным ООН в ноябре 1947 г. планом раздела, и репатриации палестинских беженцев [558].
В ответ на это традиционная сионистско-израильская историография обычно вспоминает о сорвавшемся в 1919 г. соглашении Хаима Вейцмана с эмиром Фейсалом как о наиболее ярком примере серьезности усилий сионистов по получению согласия арабов на осуществление в Палестине сионистской программы [559]. В период мандата сионистские официальные лица были открыты для инициатив другой стороны и часто следовали этим инициативам, чтобы избежать критики за то, что упустили шанс добиться прорыва в переговорах [560]. Проблема, по их мнению, заключалась не в них, а в нежелании арабов смириться с проектом еврейского национального дома и продолжением еврейской иммиграции.
Некоторые ученые пытались продуманнее использовать подход упущенных возможностей и появившиеся в их распоряжении архивные материалы. В 1991 г. Итамар Рабинович из Тель-Авивского университета опубликовал книгу «Невыбранная дорога: ранние арабо-израильские переговоры» (The Road Not Taken: Early Arab-Israeli Negotiations) [561]. Толчком к ее написанию послужила статья нового историка Ави Шлаима, посвященная переговорам с участием Хусни аз-Заима, в которой Шлаим обвинил Израиль в том, что тот «растранжирил» «исторический шанс» заключить мир с сирийским лидером (которого вскоре свергли и убили) [562]. Отказываясь от намерения защищать кого-либо из действующих лиц, определять меру их вины или фокусироваться на, как он говорит, «вечно интригующем вопросе „упущенных возможностей“», Рабинович писал свою книгу в явном стремлении скомпенсировать распространенность подхода упущенных возможностей, которым порой злоупотребляли новые историки.
Не оспаривая напрямую вновь открывшиеся свидетельства недальновидности израильского руководства конца 1940-х — начала 1950-х гг., Рабинович более равномерно распределяет между конфликтующими сторонами ответственность за неудачу в достижении мира. Опираясь на свои глубокие познания в области арабской региональной политики и на более широкий спектр первичных и вторичных источников, он внимательно изучает вопрос о том, действительно ли кто-то из представителей арабской стороны был готов заключить мир с Израилем, если бы израильтяне проявили больше желания идти на уступки. Подвергая тщательному анализу три исторических примера, относящиеся к периоду после 1948 г., Рабинович доказывает, что ни один из потенциальных партнеров Израиля по мирному процессу в Сирии, Египте или Иордании не был в состоянии выполнить соглашение, если бы таковое было достигнуто, «доведя дело до конца» вопреки внутренней оппозиции — даже если бы израильтяне были более сговорчивыми или уступчивыми. Отказываясь от упрощенного и обвинительного отношения к упущенным возможностям, Рабинович предлагает модель тщательного анализа, результаты которого можно проверять, уточнять или опровергать в ходе дальнейших исследований или по мере появления дополнительных источников. Схожие шквалы научных споров поднимались и по поводу того, упустили ли израильские лидеры возможность мирного урегулирования с палестинцами в 1967–1968 гг. или с Египтом в начале 1970-х гг. [563]
Конечно, контрфактическому анализу подвергают действия не только сионистского и израильского руководства — есть немало авторов, которые манипулируют подходом упущенных возможностей, обвиняя в недостижимости мира арабов и палестинцев. Покойный израильский дипломат Абба Эвен однажды сострил, что арабы «никогда не упустят возможность упустить возможность», и израильтяне часто повторяли это клише, критикуя другую сторону по мере того, как окно возможностей то открывалось, то снова захлопывалось. Как правило, израильтяне используют эту остроумную фразу в контексте «перекладывания вины», продвигая тем самым выгодную для себя точку зрения, согласно которой в то время, как Израиль всегда готов пойти на жертвы ради мира, арабы и палестинцы почему-то никак не могут воспользоваться шансом — из-за закоренелой враждебности, нехватки политической ловкости, неспособности понять свои собственные интересы, проклятия некомпетентного руководства или под действием какого-то безудержного антиизраильского порыва, который оказывается равно, если не более вредным для них самих, чем для их противников [564].
Другие авторы в качестве причины упущенных возможностей называют палестинский «экстремизм» и «отрицание реальности». Они часто указывают на отказ палестинцев согласиться с докладами комиссии Пиля (1937) и Специального комитета ООН по Палестине (1947), а также с предлагавшимися тогда картами. Приведу одно особенно полемичное применение подхода упущенных возможностей:
Бессмысленные страдания, которые палестинское руководство и элиты навлекали на свой собственный народ и на всех, с кем сталкивались (евреев, иорданцев, ливанцев и жертв терроризма по всему миру), являются прямым результатом их одержимости справедливостью. Если бы они пожелали пойти на неизбежный исторический компромисс, они могли бы создать палестинское государство еще в 1947 г., причем на гораздо большей территории, чем сегодняшние Западный берег и сектор Газа [565].
В дополнение к обвинительному тону (это настоящий виктимблейминг — перекладывание вины на жертву) эта позиция упускает из виду важные детали, которые помогают объяснить, почему палестинцы не могли — или, исходя из их же интересов, возможно, даже не должны были — принимать эти предложения.
Несомненно, эти классические упущенные возможности необходимо рассмотреть подробнее, во всех их нюансах. Относительно того, что могло бы произойти, если бы палестинское руководство согласилось с докладом Пиля, можно высказать следующие сомнения и соображения.
1. Неясно, остались бы в этом случае в силе предложения Пиля о границах, отводившие еврейскому мини-государству (государству-анклаву) примерно 20 % территории западной Палестины (Галилея и побережье Средиземного моря к северу от Тель-Авива), учитывая, что сионистское руководство энергично с ними не соглашалось, пусть даже и объявив о своем принципиальном согласии с докладом Пиля.
2. Неясно, насколько жизнеспособным было бы арабское государство в том виде, в каком оно предлагалось Пилем: арабские районы разделенной Палестины под управлением верного союзника Британии, эмира Абдаллы.