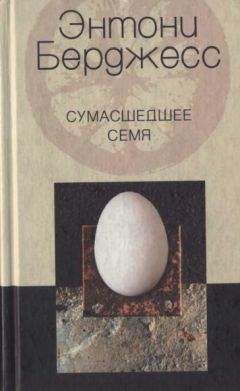Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
Пришлось признать, что я тот, кто есть, а мои книги — это я сам. Для меня единственный путь выплачивать ипотеку и счета торговцев — предлагать читающей публике себя самого и как можно откровеннее. Так, после выхода в свет романов «Червь и кольцо» и «Мистер Эндерби изнутри» я переработал мою стихотворную пьесу «Канун святой Венеры» в повесть. «Хайне-манн» ее не принял. Тогда я попробовал писать одновременно два романа: один под названием «Я верю тебе и люблю», основанный на четвертой книге «Энеиды», где любовь Дидоны и Энея превосходит размах Вергилия; и второй — «Запечатан любовным поцелуем» по мотивам «Нельзя ее развратницей назвать» Джона Форда[155], зловещей истории инцеста брата и сестры. Это заняло у меня месяц. Я перечитал «Саламбо», чтобы побольше узнать о древнем Карфагене, но этого мне не хватило. Я не мог пойти дальше Вергилия и оживить Энея, а в романном изложении сюжет Джона Форда был просто нелепым. В отчаянии я напечатал новое название — «Заводной апельсин»[156] — и задумался, какая история может ему соответствовать. Мне всегда нравился лондонский кокни, и я чувствовал, что в этом слове должно быть нечто большее, чем странная метафора некой, не обязательно сексуальной, эксцентричности. Какие-то образы вдруг зародились во мне.
Вернувшись домой из экзотических стран, мы с Линн обнаружили новое британское явление — банды озлобленных тинейджеров. Приезжая в отпуск в 1957–1958 годах, мы видели в кафе молодых людей, их называли пижонами или «тедди бойс»; они были элегантно одеты в эдвардианском стиле, носили туфли на толстой подошве и изысканные прически. Они казались слишком изысканными для грубых потасовок, но люди потрусливее их все же боялись. Разочарованные послевоенным падением роли Британии как мировой державы, эти парни казались воплощением Zeitgeist[157], и только одеждой напоминали о времени экспансии при Эдуарде VII. Первоначально их называли эдвардианскими задаваками. На короткое время этот стиль обрел популярность даже в Малайе, где местные военнослужащие носили подобный наряд в свободное от службы время. Тяжелое зрелище — видеть, как молодые малайцы и китайцы потеют в шерстяных костюмах. Теперь, в 1960-м, место стиляг заняли хулиганы, одетые как придется. Одних, носивших модную, современную одежду, называли «модами», а вторых — «рокерами», они разъезжали на мотоциклах с разными железными прибамбасами, в черных кожаных куртках. Второе издание Оксфордского словаря справедливо указывает на кожаные куртки рокеров как на признак принадлежности к определенной группе, но ошибается, полагая, что свое название они получили из-за любви к рок-н-роллу. Направляясь к Гастингсу, мы с Линн видели, как моды и рокеры от души молотят друг друга.
Похоже, молодые люди были просто приверженцы агрессии как таковой. Они представляли манихейскую модель[158]Вселенной, в основе которой противопоставление двух начал: инь — ян, х — у. Я догадываюсь, что эта бесцельная энергия новой молодежи, сытой, с деньгами в карманах основательно нарушала общественный порядок. Конечно, эта энергия возникла не на пустом месте и не была такой уж «новой». Во времена Елизаветы I бывало затевали бунт и подмастерья, но с ними быстро расправлялись — иногда вешали тут же на месте. Сначала я подумывал написать новый роман на историческую тему — о конкретном бунте ремесленников в 1590 году, когда юные головорезы избили женщин, которые, по их мнению, продавали яйца и масло по завышенной цене. Тогда, кстати, и Уильям Шекспир мог поскользнуться на скользкой от крови и яичных желтков мостовой и сломать себе бедро. Но, в конце концов, я решил пофантазировать о недалеком будущем — годах, скажем, семидесятых, когда юношеская агрессивность достигает такого накала, что правительство решает покончить с ней «павловским» методом негативного воздействия на организм. Я понимал, у романа должна быть метафизическая или теологическая основа: молодежи дана свобода — выбрать добро или зло, причем предпочтение обычно отдается злу; далее — искусственное уничтожение свободной воли у некоторых индивидуумов с помощью научных методов. И тут возникает вопрос: не будет ли с религиозной точки зрения такое решение проблемы еще большим злом, чем свободный выбор зла.
Во время работы над таким романом возникли не те сложности, которые озадачили бы Невила Шюта, — меня беспокоила проблема стиля. История должна быть рассказана парнем из будущего, а значит, необходимо придумать его собственную версию английского языка: частично это будет сленг его группы, а частично — его индивидуальная манера. Не было смысла писать книгу на сленге начала шестидесятых: сленг — явление эфемерное, и к тому времени, когда рукопись отправится в набор, от нее будет нести нафталином. Тогда это казалось мне неразрешимой проблемой. Значит, придется изобретать сленг 1970-х, а меня колотило от одной только мысли, что он будет надуманным. Я засунул в ящик наполовину написанный на сленге шестидесятых черновик и засел сочинять что-нибудь другое.
* * *Насколько хорошо я понимаю женщин? Это можно выяснить, превратившись в женщину или скорее в девушку, непосредственную, простую, необразованную, чьи женские свойства не утратились из-за книг или рефлексии. Писать буду от первого лица — девушки из супермаркета, хорошенькой, никогда неунывающей оптимистки, муж которой, мрачный молодой человек, подозревает, что весь мир катится к черту, но из-за своей необразованности, не понимает по какой причине. Окружение супружеской пары я мог с лихвой почерпнуть из «Дейли миррор», ставшей теперь единственным чтением Линн. Публичной библиотеки, откуда я приносил бы ей дешевые романчики, поблизости не было, но их заменил телевизор — особенно нравился Линн коммерческий канал из Саутгемптона. Там еженедельно проводились телевикторины с денежными призами; вел викторины канадец по имени Хью Грин. Когда в тридцатые годы Майкл Каллахан приносил в библиотеку старших классов «Радио таймс», чтобы обвести карандашом свои любимые программы («Танцуй до упаду» с Джеральдо и его оркестром, «Труаз и его ансамбль мандолинистов»), мы часто видели на обложке Хью Грина, юношу нашего возраста, во фраке, радостно улыбающегося, поющего и танцующего, нахального и дружелюбного — юную звезду. Как мы его ненавидели! Теперь он превратился в серьезного, седеющего человека, с трудом произносившего некоторые особенно сложные слова в викторине. Обязательно вставлю его в роман.
Писать книгу было легко и весело: для месячной работы над ней коммерческое телевидение и «Дейли миррор» давали мне все необходимое. Муж героини работал агентом по продажам подержанных автомобилей, и потому мне пришлось изучить разделы объявлений об их продаже, а также выпить с одним типчиком в пабе святого Леонарда, знавшим все тонкости «омоложения» подержанных тачек. Со словарным запасом и произношением девушки тоже проблем не было: каждый вечер мы слышали такую болтовню по телевидению. Ее муж сначала мрачно следит за викториной, но денежные призы его прельщают. Он вступает в игру как специалист по английской литературе, о которой ничего не знает, окончив, как и жена, неполную среднюю школу. Однако его воображение волнуют великие бородатые мужчины из прошлого, книги которых предупреждают о зле и грядущих катаклизмах, и эти книги, он знает, ему никогда не прочесть. Но у молодого человека фотографическая память, и он начинает поглощать знания по литературе из энциклопедий. Теперь он ходит неделя за неделей на все викторины и без труда отвечает на самые каверзные вопросы. Однако, когда приходит вопрос на тысячу фунтов — кто автор «Хорошего солдата»? — он дает, в соответствии с данными энциклопедии, ответ: Форд Мэдокс Хеффер[159], но ответ не принимают. Правильный ответ — Форд Мэдокс Форд. В зале напряжение, тяжелое дыхание, зловещая музыка на органе Хаммонда, крики взволнованных зрителей. Но эксперты разъясняют: подходят оба имени. Чувство облегчения и радости у всех.
Молодой человек, не испытывающий никакой радости (ведь победили его фотографические мозги, а не он сам), открывает у себя еще один невероятный дар: путем концентрации внимания он может предсказать в «Дейли миррор» результаты заездов на следующий день. Все призовые деньги он тратит на ставки и быстро богатеет. Не питая никакого доверия к миру, он все же считает своим долгом посмотреть его. Они с женой едут в Америку, отдыхают на Карибах, останавливаясь в самых роскошных отелях, а по возвращении домой молодой человек объявляет жене, что им обоим надо умереть. Мир, погрязший в грехе, они повидали, и теперь лучшее, что можно сделать, — это его покинуть. Он протягивает жене снотворные таблетки, но та отказывается их пить и, сопротивляясь, убивает мужа. Потом бежит во Францию, прихватив оставшиеся деньги, а самого его везет в сундуке из камфарного лавра — такой мы с Линн купили в Малайе. В результате его труп, обклеванный птицами до костей, торчит на французском поле, как пугало. Довольно жуткий конец, но он не поколебал оптимизма моей героини. Из двух рук, сжатых в рукопожатии, осталась одна, но она аплодирует. Отсюда название книги из дзен коан[160] — «Однорукий аплодисмент». Я отправил роман Янсону-Смиту на рождественской неделе 1960 года. Его опубликовали следующей осенью под псевдонимом Джозеф Келл. Так появилось новое имя, а на новые имена деньги не тратят. Книга камнем пошла ко дну.