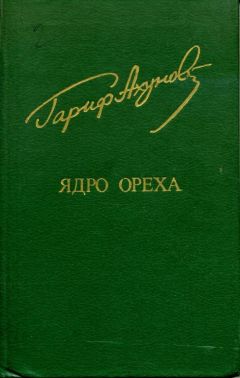Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Мы не видим больше этого молодца в стихах Цыбина. Мы видим узкоплечего деревенского мальчишку, измотанного голодом и золотухой, вырастающего без праздников, рядом с бабьим горем, под кашель матери, под страшные разговоры о засухе. Душевный опыт поэта, казавшийся извечным, впитанным от рождения, заложенным намертво, обернулся опытом выстраданным, глубоко личным, а это уже — иной опыт… Переосмысляется война, переосмысляется детство, и само отношение к жизни неизбежно меняется.
Вот они выросли, вот они на посиделках, эти молодые парни, — как робеют они первого чувства!
Как мы сияли родинками.
сидели мешки мешками,
и нас поощряли, молоденьких,
взглядами и смешками…
Где удальство? Где уверенность? Где властная требовательность чувства? «Мешки мешками…» Прежний Цыбин просто не решился бы на. такую самоиронию — он не увидел бы всего этого: и этой доверчивой наивности, и этого сияющего простодушия. Теперь Цыбин видит иное. Само отношение к жизни переменилось у него. Жизнь теперь — не разменная монета для молодецкой рубки, но величайшая, ни с чем не сравнимая ценность.
Тема пролитой крови вновь возникает в его стихах, но как! Вырастает трава окрест, но ни один из людей не воскрес: отрубленное не прирастает!.. Когда в окна начинает лучами колоться молоденький, ситный свет, щупает ноги дядя Костя руками и не понимает, что их нет… Только обнаженными нервами можно было найти эти строки:
Ночью к слепому
яркие, как гроза,
ночью к слепому
приходят его глаза…
То и дело возникают у Цыбина мотивы, мало совместимые с его первоначальной эстетикой, смятенье приходит на смену крутой правоте, какая-то неведомая ранее тревога посещает героя при мысли об умерших в войну родных тех самых, ярость которых он прежде так уверенно наследовал. Герой раздвоен он готов судить себя судом памяти,—
И сам себе как будто в тягость,
в себе самом как будто я гость,—
Где истоки этой немыслимой ранее тревоги? Интересно сопоставить смятение Цыбина со смятением Рождественского, которое моментально в стихе, как аргумент в споре. Или с тайным смятением ахмадулинской героини, лукаво просящей пощады: «Читатель, милый, поиграй со мной». Цыбинская тревога — серьезна, она — от жизненной драмы, а не от полемической диалектики. И это не смятение бессилия! Герой Цыбина — человек сильный, и его тревожность может показаться необъяснимой, если остаться в пределах прежней поэтики Цыбина, где сила была как бы вещью в себе, где сила не ведала цены живому. Нужно было подняться над первоначальным душевным опытом, чтобы поднялась поэзия к последним вопросам бытия, где горе неизбывно, и совесть бессонна, и жизнь бесценна. Ясней стали масштабы. Новой тревогой Цыбин словно платит за прежнюю уверенность. Уверенность была иллюзорной, как и суетность, которой эта уверенность была противопоставлена.
Ненависть к суете — по-прежнему сквозной мотив Цыбина. Но теперь важнее — боль. «Ах, какою тебя болью искуплю я, суета?»… Стремлениеотделить в себе самом мелкое от большого, суетное от подлинного, иллюзии от последней правды — вот исток тревоги, благородной и высокой поэтической тревоги Цыбина.
Его стих, в котором старое смешалось с новым, и тонкое переплелось с грубым, несет в себе черты хаотичности, но сверкают в этом пульсирующем, бессонном поэтическом вихре высокие звезды поэзии.
«И видится мне, как к морю, мохнатая, будто шуба, туча бежит по полю; сияют дожди обложные, свесив с макушек ножки, и капельки дождевые как будто хлебные крошки…»
Это — поэзия, космос в миниатюре, тут — вся судьба: детство, оцарапанное колючим словом «засуха», мохнатый душный полушубок, в который тебя кутали больного, крохи хлеба и мечта о Синь-городе, — все вобрано в эту тучу. И вся теперешняя, взрослая, неистребимая цыбинская нежность к живому пульсирует в стихе, переворачивая прежний — прочный, вросший корнями в землю мир.
Земля — она только сверху жесткая, Там, в глубине — живая вода в ней; главное — дойти до глубины, а сверху — пусть хоть асфальт, хоть огород, хоть степь полынная, хоть алюминий аэропорта — то ж сверху…
То, что происходит с поэтом, — это победа глубокого поэтического начала над началом внешним, неистинным, выдуманным, это многозначительная победа, это — говоря цыбинскими словами — нарождение нового человека в нем, это тот драматичный и решающий момент, когда, — еще раз словами Цыбина, — «живые глаза прорезаются в стальном сердце».
1964
РИТМ И ПУЛЬС
Поэтическая судьба Анатолия Передреева началась легко. Замечен был сразу и самим Николаем Асеевым в «Литературной газете» горячо напутствован. Журнальными публикациями — еще до книги — вызвал интерес критики и читателя. Подготовил первую книгу — а уж ее ждут, потому что у автора есть имя. Жизненная судьба Анатолия Передреева началась трудно. «Я учился писать, и хрустящие хлебные карточки от себя отрывала по клеточке мать, чтоб меня не тошнило, чтоб меня не шатало за партою… Я учился писать!» Все это — точно, документально, почти дневниково. «Три старших брата было у меня… От них остались только имена»… Вы узнаете это послевоенное полуголодное сиротство. Вы узнаете и этого человека. И те места, откуда вышел он, — вы легко узнаете. «Околица — ни город, ни деревня, окраина — заборы и деревья, и дом родной, и матери лицо…» Никакой выдуманности, никакой условно поэтической жизни, никаких спецкрасот — кажется, простря фактура. «Я еду в город Севастополь в морскую школу поступать…» Передреев биографию в стихах пишет — словно анкету заполняет: по этапам, деловито, экономно, лишь главное и существенное говоря, лишь то, что к делу идет. Читателю ничего не стоит по стихам Передреева восстановить достаточно полно его послужной список, внешний биографический ряд событий его жизни. Труднее уловить, откуда берется в этой точной, лаконической поэзии ощущение силы и гармонии. Мало цветовых пятен. Мало запахов. Мало звуковых ритмических ударов, прямо поражающих слух. Одним словом, мало всего того, что должно давить на наши органы чувств. С другой стороны, нет и головоломных умственных красот, которые могли бы увлечь нас помимо пяти чувств. Ничего вроде нет! И при этом — удивительное, полное, отчетливейшее ощущение живого существа. Вы узнаете это живое существо словно шестым чувством, каким-то комплексным ощущением организма. «И слышно — в щель протискивает корни наш сад, забытый нами наверху», — говорит поэт, и это «протискивает» мгновенно воздействует на ваше сознание, вызывая образ худого мальчишки, от голода шатающегося за партою и упрямо пишущего свои палочки. И другой образ, другое ощущение — зарывшегося в теплую кровать, свернувшегося калачиком, уставшего за день рабочего парня. И еще вот это полушутливое, обращенное к кондуктору: «Ни разу я не увернулся, ни разу я не прошмыгнул». Везде у Передреева вот это моторное, почти телесное ощущение растущего, доверчивого и упрямого, беззащитного и всеоружного — протискивающегося живого существа, — не глазами увиденного, не ушами услышанного и не постигнутого в раздумье, — а именно кончиками нервов уловленного, нащупанного в стихе.
Передреев не живописует и не рефлектирует. Он чувствует живое по пульсации крови, — он ритмы улавливает.
Тут секрет его поэтичности и обаяния.
Перечитайте хотя бы те стихи, которые я выше цитировал.
Шагают,
Шагают,
Шагают,
Послушные звонкому горну…
А я
Пустыри вспоминаю
И старую лысую гору…
Звонкий ритм марша в белоснежное одетых пионеров, а сквозь него — осаженное дыхание опустошенной старости…
Памятники,
Памятники,
Памятники…
В бурях, в ливнях, в солнечных лучах —
Гимнастерки,
Плащ-палатки,
Ватники
Бронзовые,
На бронзовых плечах…
Живое — мы узнаем по вздоху. Везде у Передреева за обрушивающимися на человека ритмами времени — размеренно-тяжкими или бравурно-торжественными, деловито-четкими или торопливо-веселыми — везде ощущаем мы существо, отзывающееся на каждый удар ритма, вздрагивающее при каждом ударе, никак не умеющее ни к чему привыкнуть, вписаться, притерпеться…
В одном из слабейших вариантов этой коллизии Передреев прибегнет к красивому, так сказать, сравнению, он напишет о парке, об «организованных огнях» увеселений, он скажет: «кружусь на карусели, кружусь, кружусь на неживых конях!» И сразу запахнет плохо усвоенным Есениным. Ибо неживые эти кони у Передреева — как раз красивость, дань старательной поэтичности, попытка украсить правду. В лучших и неповторимо передреевских стихах ощущение живого героя возникает помимо и без участия специальной образности — от самого пульса стиха возникает. «И на одном глухом вокзале заснул, как мертвый, среди дня, и среди дня ботинки сняли, ботинки новые с меня…» Словно заклинает окружающих мальчишка, что ехал в город Севастополь в морскую школу поступать и попал в такую беду… Вся правда — в изумленной его наивности, в том, как доверчиво он спрашивает: «Ну, как я в город Севастополь таким поеду босяком?!»— в том, как упрямо твердит, повторяет свое, не в силах успокоиться, привыкнуть, притерпеться.