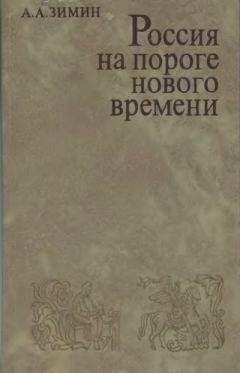Сергей Романовский - От каждого – по таланту, каждому – по судьбе
… 14 апреля 1930 г. застрелился В. Маяковский. Журналисты попросили Горького высказаться. И тот сказанул: он связал смерть Маяковского с легендой о самоубийстве от несчастной любви. «Вероятно, это делают для того, – сказал писатель, – чтоб причинить неприятность возлюбленной». Маяковского, как видим, уже в гробу, но все же догнала месть Горького за «ужа и сокола».
Как ни крути, какой факт ни бери, но вывод напрашивается один: публицистика Горького всегда была непримиримой, теперь же она стала еще и доносительной. Ему было необязательно писать «куда надо» (он и туда, впрочем, писал), достаточно было одной его газетной статьи, чтобы бригада «скорой политической помощи» могла выезжать на очередную зачистку.
И еще одна черта прорезалась в горьковской натуре, как только он понял, что без советской власти ему не прожить, – показная наивность. Ему было удобно ничего не видеть, не замечать, не понимать. Так ему было спокойнее. Когда в 1927 г. к Горькому в Сорренто пожаловал Лев Каменев и стал горделиво рассказывать прослезившемуся от умиления писателю об успехах в строительстве социализма, тот предпочел тут же забыть содержание горы писем, приходивших к нему из СССР, – их содержание не вязалось с рассказом этого вождя.
… Во время посещения концлагеря на Соловках в 1929 г. к Горькому прорвался 14-летний мальчик и попросил того поговорить с ним наедине. Писатель согласился. Проговорили более часа, затем гости уехали. Мальчика тут же расстреляли. Охрана сразу поняла, чтó мог говорить Горькому этот зэк. Горький же был «выше» этих нюансов.
Там же Горький встретил заключенного, с которым вместе сидел еще в 1905 г. Тот его сразу узнал. Писатель, как всегда, прослезился. «Пиши заявление, – сказал он зэку и пошел». «Куда? Кому?» – но писатель был уже далеко.
К. Чуковский считал, что Горький обладал «баснословным даром» закрывать глаза на все, что могло его огорчить или доставить какие-либо моральные неудобства. Он тогда виртуозно не замечал ничего. Когда же его все же вынуждали насильно, он тут же пускал слезу, скорее всего искреннюю.
* * * * *
В 1901 г. в «Песне о Буревестнике» Горький призывал: «Буря! Скоро грянет буря!… Пусть сильнее грянет буря!…» Когда эта буря в 1917 г. разразилась, от нее в тихой заводи никто укрыться не мог. Не укрылся и автор этого безумного призыва. Более того, он оказался как бы между стульев: не вполне умостился на большевистском, но и встал со своего привычного кресла независимого художника. Он стал зависим сам, а благодаря его влиянию в большевистских верхах и даже личных приязненных отношениях с Лениным, от него теперь напрямую зависела и судьба многочисленной армии российской интеллигенции. И ей он, надо сказать, в первые, самые страшные, годы большевизма активно (чем мог) помогал. Эта грань его деятельности хорошо известна, а сам Горький за это вполне заслуженно обласкан потомками.
Хотя не исключен и такой разворот вопроса: а не могло ли тешить самолюбие писателя, что от него, вчерашнего босяка и самоучки, зависит теперь судьба интеллектуальной элиты России, к которой он при всей его феноменальной начитанности не принадлежал. Скорее всего так оно и было.
Прочтем письмо Горького Л.М. Леонову (декабрь 1930 г.), где он делится с молодым своим коллегой возмущением по поводу «подлецов» из Промпартии: «Отчеты о процессах подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства. В какие смешные и нелепые положения ставил я себя в 18 – 21 гг., заботясь о том, чтоб эти мерзавцы не подохли с голода!» «Эти мерзавцы» это не подсудимые по делу Промпартии, это русская интеллигенция в целом, которая действительно помирала в гражданскую войну и которой Горький тогда помогал. Суть в том, что русскую интеллигенцию Горький просто ненавидел, а процессы 30-х годов, в которые он поверил, стали лишь предлогом, чтобы открыть долго сдерживавшийся желчный поток.
Впрочем, восприятие Горьким реалий большевизма прошло длительный путь психологической эволюции. Поначалу его ужаснули кровавые реалии пролетарской революции, и он со свойственной ему прямотой и всегдашней убежденностью в собственной правоте высказал свое отношение к происходящему в «Несвоевременных мыслях». Такое незамеченным остаться не могло, и уже вскоре Горький почувствовал, что большевистский вождь начинает тяготиться им, а когда его с большевистской заботливостью выставили лечиться за границу, он понял – в нем более не нуждаются. Он уехал очень сердитым на большевиков.
Однако все по порядку.
Захват власти большевиками Горький воспринял как вооруженный переворот, как путч.
(А задумывались ли когда-либо изучавшие историю КПСС, почему Ленин, коли пролетарская революция была естественным итогом поступательного развития российского исторического процесса, так вызверился по поводу «предательства» Зиновьева и Каменева, выдавших через газету – кстати, горьковскую «Новую жизнь» – срок вооруженного восстания. Ведь если все «естественно, то какая разница: 25, 26 или 27 октября большевики возьмут власть? Разве можно выдать дату события объективной истории? А Ленин все же боялся и все прикидывал: «вчера рано, завтра – поздно». Значит, все же – путч. А далее через нечеловеческую жестокость заставили они и историю работать на себя).
«Плохо с Русью, плохо», – пишет Горький Екатерине Пешковой.
Горький категорически не принял ленинских методов социализации России. Он почти мгновенно, на чисто интуитивном уровне, понял, что миром правит зло, к справедливому миропорядку оно не приведет.
Хотя революцию (она, ведь, не в октябре началась, а в феврале) Горький принял восторженно и с радостью оповестил мир, что русский народ «обвенчался со свободой», от этого брака он ждал многого. Временное правительство дало ему «добро» на издание газеты «Новая жизнь», и Горький с апреля 1917 г. по июль 1918 г. издавал ее, печатая во многих номерах статьи по волновавшим его вопросам. Впоследствии эти статьи, собранные вместе, составили книгу его публицистики «Несвоевременные мысли», резко обособленную от всего прочего, понаписанного им после 1917 г., своей действительной демократичностью.
Разочарование в «февральской демократии» пришло быстро. Полная недееспособность пришедших к власти революционных демократов могла охолодить любой восторг. 7 августа 1917 г. Горький пишет Е.П. Пешковой: «Не знаю, не вижу, не чувствую, что будет дальше, но и того, что сейчас имеется, вполне достаточно для того, чтоб сделаться мизантропом».
А дальше был Ленин со своей партией. Россия стала Советской. И тут-то Горький заметался, как пойманный в силки буревестник. Его раздражало всё: и солдатские рожи, с презрением взиравшие на его шляпу, и полный разор в Петрограде, и безработица, и нищета, и зверства комиссаров. Он не был против социалистической идеи, он сам воспевал ее уже много лет, он категорически восстал против методов ее навязывания людям.
Писал яростно, много, почти в каждый номер. Успел опубликовать несколько десятков своих «несвоевременных мыслей», пока в июле 1918 г., в день расстрела царской семьи, газету «Новая жизнь» большевики не закрыли окончательно.
В «Несвоевременных мыслях» поражают не сами мысли, ибо в те годы нечто схожее приходило в голову многим здравомыслящим людям. Поражает то, что Горький их высказал публично, ничего и никого не боясь, что писал он свои статьи сразу, по горячим следам калейдоскопически менявшихся событий, что, наконец, автором их являлся именно Максим Горький, еще совсем недавно полностью разделявший все идеи Ленина.
Но как только тот же Ленин эти идеи стал примерять на громадную страну и она стала корчиться от боли, Горький не выдержал и сказал вслух всё, что он думает по поводу пролетарской революции в России.
Да, самодержавная власть была «бездарна», но инстинкт самосохранения верно подсказывал ей, что главный ее враг – «человеческий мозг», свободная творческая мысль. Поэтому даже наука всегда была в России «под враждебным надзором чиновника». Никогда в России не развивалась нормальная экономика, а на фоне экономической разрухи «всегда и неизбежно» возникает социальное разложение. И даже свободное слово, произнесенное в стране еще вчера рабской, оказывается словом «неприличным», что в этой свободе мы неизбежно захлебнемся, как в грязи, ибо сами ее и разводим. Эти мысли пришли в голову Горькому между Февралем и Октябрем.
Но вот свершился переворот, и власть упала к ногам большевиков. Они долго не могли поверить, что все оказалось столь просто, что никто им поначалу даже не сопротивлялся. А они ждали отпора, потому всю накопившуюся ненависть к «буржуям» стали выплескивать на городского обывателя. Революция стала «звереть» на глазах, она утвердила «звериное право» толпы на самосуд. Людей хватали без разбора и без суда – к стенке.