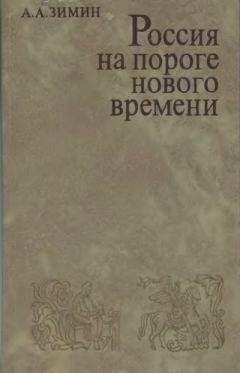Сергей Романовский - От каждого – по таланту, каждому – по судьбе
В конце 20-х годов, увидев, что его отношение к крестьянству полностью расходится с линией партии, он тут же излечился от своей «патологии». В 1928 г. Горький писал: «Город и деревня – две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут… для них пришла пора слиться в одну, необоримую творческую силу, слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались». Эти «откровения» Горький излил по случаю, в проходной рецензии на книгу Михаила Исаковского «Провода в соломе». А что значит «слиться»? Только одно: когда крестьянин будет полностью ассимилирован городским люмпеном. Что вскоре, впрочем, и произойдет.
Горький, как видим, уже полностью созрел и для всеобщей коллективизации, и для ликвидации кулачества как класса, т.е. если вспомнить Бориса Пастернака, – «для всеобщей готовности». Лучше бы, конечно, ликвидировать все крестьянство. Но раз партия считает иначе, значит так тому и быть: ограничимся пока кулачеством.
Сталин теперь мог в своей политике раскрестьянивания положиться на авторитет Горького. Ибо Горький в самый разгар коллективизации изрекает, что «высочайшей целью» советского строя является… «уничтожение частной собственности, уничтожение моей земли, избы, семьи». Как к этому прикажите относиться? Ведь Горький – не комиссар-фанатик, он – писатель. И все же?
Только как к верноподданическому бреду. А как еще?
* * * * *
Основным в восприимчивой натуре Горького было то, что он практически никем, кто с ним сталкивался, не воспринимался как человек убеждений, а скорее настроения: капризного, переменчивого и непредсказуемого. От переменчивого настроения и вечные «проти-воречия», коими он опутал многих исследователей. На самом деле «противоречия» можно усмотреть лишь у убежденного в чем-либо человека, а у эмоционального и впечатлительного – не противоречия, а смена «капризов».
Если скрупулезно прочесть публицистику и письма Горького, то несложно заметить, что в разные годы по одним и тем же вопросам он высказывался диаметрально. Кое-что из его «позиций» мы уже отметили. То же касается и его суждений о Ленине, и о революции, и об интеллигенции, и о культуре, и о чем угодно. Неизменен он был лишь в любви к книге и к женщине, да в ненависти к русскому мужику.
Д.В. Философов, имея в виду именно переменчивую натуру Горького, называл его «безвольным и бессознательным», а И.А. Бунин – «изломанным и восторженным». Д.С. Мережковский, не любивший всякого Горького, вообще окрестил его «двурушником… Когда он с нами – он наш. Когда он с ними (с большевиками. – С.Р.) – он ихний… Он искренен и там и здесь» (Это запись К.И. Чуковского 17 ноября 1919 г.).
Известная исследовательница жизни и творчества Горького Л. Спиридонова думает, что эта определенная размазанность натуры Горького от неустанного поиска. Он, мол, всю жизнь всё искал. От этого метания, шарахания и более чем уродливая для его ума и возраста непосредственность и наивность.
Есть, однако, и другая причина. По мере того, как Горький из босяков выбивался в люди или, иными словами, по мере его взросления, коэффициент интеллектуальности тех, с кем ему интересно было общаться, непрерывно повышался, а сам он из-за отсутствия систематически ориентированных знаний (образованности) справедливо считал, что сам еще этому коэффициенту не соответствует. Отсюда – тяга и одновременно неприязнь к тем, кто уже знает то, что ему удавалось добыть с таким трудом. Он вновь накидывался на книги, знания (узнавание нового) его расширялись, но единой системы знаний все равно не выстраивалось. Он поэтому так и не мог на чем-либо долго задерживаться.
Горький поневоле становился «сердитым человеком».
Вот что записал К.И. Чуковский в своем дневнике 14 февраля 1920 г.: «Блок третьего дня рассказывал мне. “Странно! Член Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, М. Горький – высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом, а он говорит: ну и чёрт с ними. Так им и надо! Сволочи!»
К 1917 г., что мы уже знаем, Горький был «законченным большевиком». Но и в этом он оказался на высоте своей двуличности: после Февраля он был демократом, а после Октября – пролетарием пера. Единственное, что его ужаснуло, – поведение его заединщиков. Он, вероятно, думал, что вся Россия смиренно склонит свою православную покорную голову перед распоясавшимся люмпеном. А она не склонила. Большевики это предвидели, оттого и взлютовали, взвинтив от отчаяния террор и бессудные расстрелы до невиданных масштабов.
А чтобы возмущенный Горький поостыл, его выставили в конце 1921 г. лечиться за кордон. Там он пришел в себя, оплакал смерть Ленина, сел на финансовую мель и потихоньку стал проникаться делами большевиков.
Но не сразу. Поначалу он был весьма зол на них. Но не только на них – и на русский народ злился, и на Россию. Он был убежден, что его страна, погрязнув в «варварстве и жестокости», на «спасение» рассчитывать не может. Для Горького, вообще говоря, характерно, что когда злость насквозь, как зубная боль, пронзала его, то в итоге разум топился в желчи, и в таком состоянии он мог ляпнуть что угодно. Например, что Россия вообще ничего не дала мировой цивилизации, да и не даст в будущем. Об этом он поведал миру в той своей брошюре «О русском крестьянстве» (1922 г.).
А в конце 20-х годов Горький публично, не смущаясь собственных старых взглядов, поддерживал сталинский режим, до небес возносил «воспитательную работу органов», умилялся их таланту по выявлению «врагов народа» среди интеллигенции. К сожалению, пролетарский писатель не понимал того, что было очевидно для многих его современников, – коли и существовал когда-либо подлинный «враг народа», то им был не отдельный вредитель, террорист или любая другая контра, а само государство российское, ныне, правда, одетое в большевистский френч.
Горький в результате возлюбил советскую власть, большевизм и даже все (без разбора) его начинания. Но это касалось только абстракций. Когда же дело доходило до отдельных людей, то он вновь становился «сердитым человеком». Ему было дело до всего.
… Писателю А. Каменскому разрешили выехать за рубеж. Горький тут же пишет Генриху Ягоде: кого отпускаете? Ведь он «начнет шуметь на тему об отсутствии свободы в Советском Союзе? Такого следует сослать на Соловки. Весьма удивлен, что эту вошь выпустили за рубеж».
… К Горькому обратился Б. Пастернак с просьбой похлопотать за него о визе, ведь он более 10 лет не видел своих родителей. Горький пишет по тому же адресу: «Пастернак, разумеется, не Каменский, он вполне порядочный человек, но он – безволен. Ведь от него будут ожидать разоблачений…» Так и не узнал поэт – за что, почему ему не доверяют?
Еще одна весьма любопытная особенность горьковской натуры, высветившаяся в советские годы, – его уникальная способность доносить «куда надо», когда его просили помочь, выручить и т.д., но никак не делиться своими соображениями с «инстанциями».
… М. Булгаков просил Горького помочь с публикацией в серии ЖЗЛ заказанной ему книги «Жизнь господина де Мольера». Горький пишет письмо-рецензию: «Это талантливо, но издательство может иметь неприятности с цензурой». Помог. Книгу эту не издавали 30 лет.
… Прочел Горький в рукописи по просьбе автора роман А. Платонова «Чевенгур». Талант Платонова он признавал, но этот роман ему явно не понравился. Назвал его «анархистским». Не верит, что в «обозримое время» его напечатают. И далее: «Хотите Вы это или нет, но Вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры». Ему, как говорится, виднее. Роман этот напечатали через 60 лет.
… Из Сорренто Горький пишет Сталину, пишет регулярно, а главное пишет обо всем и обо всех. И о каждом с горьковской прямотой: «напоминает вредительство», «смахивает на вредительство», причем все это с фамилиями, датами, фактами. Это, конечно, не наивность мудрого человека, это имеет другое название.
… Горький почти насмерть «забил» критикой поэта-деревенщика П. Васильева. Н.Н. Примочкина, изучившая этот сюжет, отмечает, что 14 июня 1934 г. Горький сразу в нескольких газетах печатает статью «О литературных забавах». В ней он доказывает, что «от хулиганства до фашизма расстояние “короче воробьиного носа”». Горький не постеснялся написать и самому поэту, что его «долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата, охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами».
Это была команда «фас!» морально безупречным советским писателям, и 10 января 1935 г. П. Васильева исключили из Союза писателей, его перестали печатать, а добили его коллеги открытым письмом в «Правду» 24 мая 1935 г. Подписали его 20 поэтов: Н. Асеев, С. Кирсанов, И. Уткин, В. Луговской, Б. Корнилов и др. Достучались-таки в нужные двери: 15 июля 1935 г. П. Васильева «за пьяные дебоши» посадили, а 15 июня 1937 г. расстреляли. Было ему 27 лет! Заварил же всю эту мерзкую историю Максим Горький.