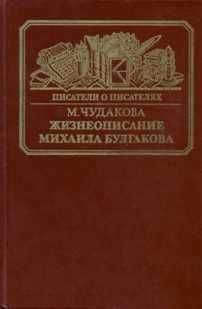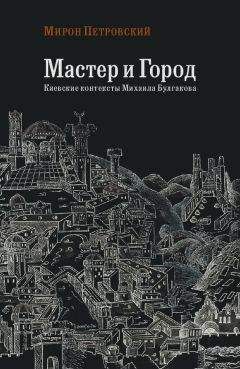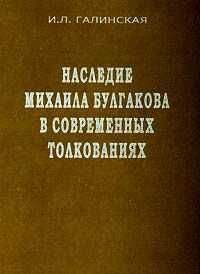Геннадий Смолин - Как отравили Булгакова. Яд для гения
Но еще одно обстоятельство должно было бы поставить в тупик последователей «почечного тезиса», а именно – продолжительность жизни больного! Если бы Моцарт ребенком перенес гломерулонефрит, так и не излечившись полностью, то совершенно точно, что он не прожил бы после этого более 20–30 лет, тем более работая в полную силу до самого конца. Средняя продолжительность жизни пациента с хроническим гломерулонефритом составила сегодня около 10, самое большое 15 лет. По данным Сарре, даже в наши дни после 25 лет хронического нефрита в живых оставались всего лишь 12 процентов больных, а что уж говорить о временах Моцарта, когда и условия жизни, и гигиена, и медицинские знания были неизмеримо скромнее, нежели сегодня! В высшей степени невероятно, чтобы Моцарт был каким-то исключением, подтверждающим правило. Чудовищный объем его продукции, составляющий ровно 630 опусов, около 20000 исписанных нотных страниц, – лучший контраргумент против «апатии, летаргии, хронического и длительного заболевания почек», не говоря уж о нагрузках, которые ему пришлось перенести за время многочисленных путешествий, не прекратившихся даже в последний год жизни. И это еще не все! У пациентов, умирающих от хронического заболевания почек, значительные отеки в конце чаще всего не наблюдались. Фольхар уже установил, что «с наступлением и усилением почечной недостаточности нефротический элемент может купироваться». У Моцарта же именно финальные опухоли были проявлены настолько резко, что их заметили даже профаны. Таким образом, трактовка последней болезни Моцарта, если выбрать путь хронического заболевания почек, встала перед дилеммой: острые терминальные отеки, если на то пошло, можно еще вписать в картину острого нефрита, но тогда эти проявления едва ли будут совместимы с симптомами, давшими о себе знать за недели и месяцы до смерти во всем их объеме. И нигде ни слова о жажде, об этом обязательнейшем симптоме любой хронической почечной недостаточности! Тем не менее, есть немало еще приверженцев «почечного тезиса», попадались они и в свежей периодике. Так, Стевенсон в 1983 году писал: «Причиной смерти была, видимо, почечная недостаточность (болезнь Брайта)».
Моцартовед профессор Дитер Кернер, заново рассмотрев «тезис отравления» в юбилейном моцартовском, 1956 году, в сущности, всего лишь объединил старые положения: 1 + 2! При некотором размышлении такое объединение напрашивалось само собой, ибо стремительную, острую «симптоматику почек», в смысле токсического ртутного нефроза, оно приводило к убедительному согласию с уже существовавшими подозрениями на интоксикацию (отравление). Моцарт, сам – как свидетельствовал дневник Новелло – считал, что он отравлен – то же подтверждали Немечек и Ниссен. Но кое-что заслуживало особого внимания: многие толкователи жизни Моцарта, чуть ли не под микроскопом рассматривая драматические события ноября-декабря 1791 года, совсем забыли, что Моцарт фактически заболел еще за 6 месяцев до кончины, ведь именно туда отсылали нас известные нам симптомы его болезни! В конце августа он отправился в Прагу, будучи уже больным, и только из-за этого попал в цейтнот при написании коронационной оперы «Тит» («Милосердие Тита»).
Согласно новой версии Дитера Кернера, диффузные симптомы, проявившиеся с июля по ноябрь 1791 года (боли в пояснице, слабость, бледность, депрессии, обмороки, крайняя раздражительность, боязливость и неустойчивость настроения), относились к малохарактерной субтоксичной предстадии, последовавшие затем скоротечные (рвота, общий отек, дурной запах, тремор, экзантема, жар) – к токсичной финальной стадии, которая выливалась в классический ртутный нефроз.
Побочные обстоятельства кончины Моцарта также были во многом слишком странными, чтобы не возбудить подозрений. Многие утверждения были основаны на заведомо фальшивых сообщениях. В день похорон, хотя бы для примера, разгулялся сплошь и рядом цитируемый «дождь со снегом», который и рассеял процессию на все четыре стороны. Но, как следует из материалов Венской обсерватории и дневника графа Карла фон Цинцендорфа, ведшего обстоятельные и профессиональные метеорологические наблюдения, в тот день стояла тихая, стабильная, туманная погода, характерная для поздней осени. Паумгартнер справедливо указывает на это: «Остается необъяснимым, что важнейшие документы и сообщения о смерти Моцарта всплыли почти через 35 лет. Официальное моцартоведение – вплоть до последних десятилетий – умышленно замалчивало каждую деталь, так что добросовестный отчет о тех днях, если даже он не прибавил уверенности в отравлении Моцарта, хотя бы ради исторической объективности был обязан включить в себя все возможное о его заболевании и кончине».
Сторонниками других диагнозов часто выдвигался упрек, что вот-де в литературе еще отсутствовал тот или иной ожидаемый симптом, который мог бы подтвердить версию об интоксикации. На это можно возразить, что все тогдашние сообщения о болезни принадлежали исключительно дилетантам, от которых нельзя требовать современной врачебной логики: так, Немечек, например, сообщил о том, что врачи не могли поставить диагноз, Ниссен единственный, кто вспомнил о рвоте, чета Новелло – о ранних болях в пояснице, а сын Моцарта Карл Томас в пространном письме писал об общем опухании тела Моцарта. С исторической точки зрения из всех диагнозов самым простым был тезис отравления, ведь он пошел в ход очень рано, еще в 1798 году Немечек писал: «Его ранняя смерть, если, впрочем, она не была ускорена искусственно», и нашел новое дыхание, благодаря утверждениям Пфайфера: в конце жизни Моцарт страдал «постоянными обмороками, опухолями рук и ног, равно как и приступами удушья».
Еще раз «почечный тезис» выступил на поверхность; на этот раз в малоизвестной работе Минута «Рахит Моцарта и его тяжкие последствия», появившейся в Сообщениях Интернационального учреждения Моцартеум (Зальцбург) в 1963 году. Что Моцарт в детстве перенес рахит, бесспорно и заметно невооруженным глазом (малый рост, лобные бугры). Племянник Бетховена Карл в начале 1824 года заносит в разговорную тетрадь глухого дяди: «Пальцы Моцарта от беспрестанных упражнений были так изогнуты, что он не мог даже сам резать мясо», что можно расценить как следствие рахита. Но когда Минут пытается протащить рахит в картину смертельной болезни под видом «почечного рахита», то, без сомнения, он попадает мимо цели, ибо под этим собирательным названием подразумеваются и внутрисекреторные поражения желез, которые из истории болезни Моцарта вывести невозможно. Так, именно в течение последних лет отсутствовали такие классические симптомы, как жажда и полиурия, нет никакого повода и для заключения о нефрокаль-цинозе с приступами колик, не говоря уж о том, что «почечный рахит» встречается крайне редко. То же самое можно сказать о «кисте на почке», обсуждаемой сейчас особенно за рубежом.
Седерхольм в качестве причины смерти Моцарта выдвигал внутрисекреторное поражение желез с финальным отеком вследствие отказа сердца. Название его статьи – «Умер ли Моцарт от базедовой болезни?». Повод для такого диагноза Седерхольму дали непоседливость и беспокойство, долгие годы сопровождавшие Моцарта, а также предфинальное изменение почерка. Определенную роль сыграло тут и «пучеглазие», наблюдаемое на некоторых портретах. Но этот симптом обнаруживали уже гравюра на меди Т. Кука (1763) и детский веронский портрет 1770 года. Однако если б у Моцарта действительно была базедова болезнь, то он не располнел бы столь значительно в последние годы. Смерть от сердечной недостаточности исключается хотя бы потому, что перед самой кончиной он пел партию альта в Реквиеме. При наличии слабости сердца это было бы просто невозможно из-за одышки (диспноэ). По этой же причине финальные отеки никак не могли иметь сердечное происхождение. А неуверенный почерк последнего Моцарта может быть обусловлен и ртутным тремором. Кроме Седерхольма к базедовой теории одно время был склонен и Бэр, но в одной из своих последних статей он отказался от нее.
Хронический нефрит, токсический нефроз, почечный рахит и базедова болезнь – ни в коей мере не исчерпывающий список диагнозов. Напротив, в семидесятые годы создалась ситуация, очень напоминающая положение 1905–1906 годов. После того, как почки уже десять лет надежно заняли центральное место в истории болезни Моцарта, Бэр в появившейся в 1966 году книге «Mozart. Krankheit – Tod – Begrabnis» («Моцарт. Болезнь – смерть – погребение») вновь вернулся к ревматизму. Не цитируя и никак не комментируя своего предшественника в этом вопросе фон Бокая, Бэр отдал значительную дань его идеям. Вершиной объяснения болезни стал «острый ревматизм» с опуханием суставов, от которого – вопреки всему опыту медицины – в течение примерно двух недель Моцарт и скончался вследствие «сердечной слабости». Об общих симптомах, появившихся задолго до этого – с лета 1791 года, – и о болезни в Праге автор даже не упоминал. Моцарт просто-напросто «уработался». При этом Бэр на передний план выдвигал замечание в дневнике Новелло: «Whose arms and limbs were much inflamed and swollen», что могло быть переведено и как «руки и конечности его были очень горячи и толсты». О локальных опухолях суставов, которые Бэр пытался найти в тексте, здесь нет и речи, так же как и у Ниссена, когда он говорил только об общем отеке без воспаления суставов. Свидетели передавали, что Моцарт писал до последнего момента (3. Хайбль, 3 августа 1829 года к Новелло). Могло ли быть такое при «ревматизме суставов кистей»? А как, о чем уже упоминалось, при наличии «сердечной слабости» Моцарт мог петь Реквием? Кроме того, свояченица Моцарта Зофи Хайбль сообщала, что Моцарту сшили специальную «ночную сорочку», так как он «не мог поворачиваться» в постели, то есть опухло и тело, что полностью согласуется с сообщением сына Моцарта Карла Томаса от 1824 года, зафиксировавшего «общее опухание». Далее, многие ежедневные газеты после смерти Моцарта – пусть по-дилетантски – писали о гидротораксе и водянке, что предполагало общий гидроз. «Тезис ревматизма исчерпывает себя тем, что, согласно современным представлениям, ревматическое заболевание – к тому же смертельное – после перенесенных в детстве ревматических приступов, которые у Моцарта, без сомнения, были, у взрослого человека не встречается, что Бэру, впрочем, известно и должно объясняться происшедшими со времен XVIII века изменениями ревматической картины болезни. Для подобной патоморфозы оснований нет» (Катнер: реферат в Нюрнберге, 1967). И. Грайтер, всегда решительно возражавший против тезиса отравления, выдвинутого и обоснованного Дальховом/Дудой/Кернером, в последнем варианте своей патографии Моцарта выражает редкое единодушие по поводу заболевания почек: «Даже приверженцы легенды об отравлении видели в почке отказавший и обусловивший смертельный исход орган».