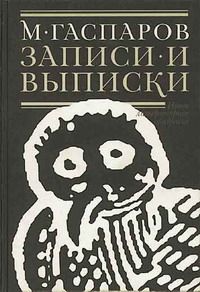Михаил Гаспаров - Записи и выписки
Диалог Гельмгольца призывали периодически к двум дворам, Вильгельм I слушал и не понимал, Вильгельм II говорил, и Гельмгольц не понимал (Алд. Армаг. 38).
Диалог — этот жанр явился мгновенно, когда все ученики Сократа бросились писать о нем воспоминания: рой пчел, самозародившийся и вылетевший из трупа (Georg. IV).
Диалог «Книга тем и нужна, что позволяет пишущему выговориться ни перед кем, а читающему вообразить, что это направленный разговор именно с ним». (Так и представляешь на месте пишущего — Деррида с его «самого-себя-слушанием», а на месте читающего — Бахтина: встречу двух эгоцентризмов).
Диалог В каждом разговоре двоих участвуют шесть собеседников: каждый как он есть (известный только богу), каким он кажется себе и каким он кажется собеседнику; и все несхожие. До Бахтина («каждый диалог двух собеседников — это диалог их внутренних диалогов самих с собой» итд) об этом написал Амброз Бирс.
Диккенс Зощенко писал языком гоголевского почтмейстера, а Джойс языком мистера Джингля. Ср. НИБУДЬ.
Дипломатия Романтический художник, общающийся с небом через голову мещанского мира, — это тоже дипломатия дружбы не с соседом, а через соседа.
Добро «Вы, В. В., генератор доброго, а я — поглотитель недоброго».
И работу окончив обличительно-тяжкую,
После с людьми по душам бесед,
Сам себе напоминаю бумажку я,
Брошенную в клозет.
(В. Шершеневич, Эстетические стансы)
Доброта Зощенко утешал Маршака, что в хороших условиях люди хороши, в плохих плохи, в ужасных ужасны. (Восп. Е. Шварца). Вообще-то, это мысль из стихов Симонида, цитированных Платоном. Брехт: «Не говорите, что человек добр, сделайте так, чтобы ему было выгодно быть добрым». Я дважды цитировал это при Т. М., один раз она восхитилась, другой ужаснулась. Собственно, рационализм марксизма и сводился к этой брехтовской формуле, но романтизм марксизма застав[235]лял его верить, что будет чудо и недобрые все-таки переродятся в добрых.
Др. Мне снилась московская Театральная площадь и на ней мемориальный столб великим полякам: Мицкевич, Лелевель, а третий почему-то был Булгарин, и на этом месте все говорили «и др.».
Долг «Ты что ж, говорю, волк, неужели съесть меня захотел? А волк молчит, разинув пасть. Не ешь, серый, я тебе пригожусь. А сам думаю: на что я пригожусь? И пока я так раздумывал, волк меня съел. С приятным сознанием исполненного долга я проснулся» (Ремизов, «Мартын Задека»).
Долг и страсть «Кто может похвалиться только умом, тот отдает должное великому и питает страсть к ничтожному» (Вовенарг, 237).
Дело «Теперь, когда все погибло, поговорим о деле» (Горький — Зубакину, Мин., 20, 263).
Дело (ср. также ПРАВИТЕЛЬСТВО). Ривароль сказал собеседнику: «У вас то преимущество, что вы ничего еще не сделали, но не нужно этим преимуществом злоупотреблять». (Переп. П. Анн.; ср. концовки сентенций Бисмарка и Вл. Соловьева).
Деньги деревянные «Если бы государь дал нам клейменые щепки и велел ходить им вместо рублей, нашедши способ предохранить их от фальшивых монет деревянных, то мы взяли бы и щепки» (Карамзин против Сперанского. Ср. Посошков: «В деньгах не вес имеет силу, а царское имя»).
Сон сына. Блестящий полководец, вроде великого моурави, отделяет от себя тень, одевает ее в великолепные латы и посылает на врага, чтобы быть сразу в двух местах. Они побеждают; тень возвращается в столицу первой и коронуется; но герой не боится Он приходит во дворец и говорит: «Тень, знай свое место!» Тень выскальзывает из лат, подползает к его ногам и прирастает; а латы остаются стоять, поднимают железную руку и приказывают: «Отрубить ему голову!»
Двухэтажный Б. Бухштаб говорил, что Н. Олейников говорил, что Маршак — поэт для взрослых, которые думают, что он поэт для детей.
Декрет «Прошу декретного отпуска по научной беременности».
Деспот «Поэты — деспоты мысли», — говорил Элий Аристид, предвосхищая Бахтина (где говорил — не выписано).
Держиморда В самых первых своих выступлениях, еще в провинциальной драме, Шаляпин играл Держиморду. [236]
Деструктивизм живет в благоустроенном доме, где ему приятно передвигать мебель то так, то сяк (А не в хаосе сопротивляющегося мира.) Культ романтического безобразия на комфортном поле взрастившей тебя цивилизации; озорник, шумящий в телефоне и без того трудного человеческого общения. Абсолютная свобода окупается абсолютной некоммуникабельностью.
Длина Клюев учил Есенина: лучший размер лирического стихотворения — 24 строки (Эрлих, 57). А Брюсов говорил Гюнтеру: 16 строк (ЛН «Блок», 5, 346).
Домовой «…а теперь тут молодежное общежитие, и такое стоит, что домовые глохнут».
Дом Цветаевой в Москве. «Ваш дом снесут: рядом будет американское посольство». Ждут. «Сделают кап. ремонт, рядом будет английское посольство». Ждут. «Отремонтируют фасад: рядом будет индийское посольство». Ждут. «Ничего не сделают: рядом будет монгольское посольство». И стоит, из окна видно.
Доразуметь и вывидеть нужное предлагал Кот Бубера у С. Боброва.
Дядя У НН., филолога-классика, — стареющий пес Шлиман: «сперва он был мне вроде сына, потом вроде брата, а потом не то чтобы вроде отца, но, скажем, вроде дяди». Я вспомнил шутку Ф. А. Петровского. Институтка спросила: чем отличаются бык и вол? «Теленочка знаешь? Ну, так вот, бык — это отец теленочка, а вол — его дядя». (Сказано было на заседании сектора, но по какому поводу?)
Decline and fall of the russian empire называлась книга, которую читали «Нашему общему другу» Диккенса, по его твердому мнению. Почему-то говорят «погибла Россия!» и представляют себе по крайней мере Римскую империю. А вы представьте Австро-венгерскую: тоже ведь стояла тысячу лет. И ничего, бравый Швейк доволен, а Вена по-прежнему стоит на Дунае. Правда, когда я сказал это О. Малевичу, он ответил: «А вы знаете, что чехи и сейчас с сожалением вспоминают об австро-венгерских временах?»
Дорогая И. Ю.,
я уже привык Вам писать о каждом встречном городе что-то вроде его перевода на знакомый нам язык: помню, как я писал Вам «возьмите Марбург, перемените то-то и то-то, и получите Венецию». Так и о Вене мне хочется сказать: возьмите ленинградские проспекты, наломайте их на куски покороче, расположите так, чтобы каждый перекресток старался называться «Пять углов», потом набросьте на эту паутину московское бульварное кольцо (только пошире) под заглавием Ринг, и Вы получите Вену. Все дома осанистые, все с окнами в каменных налични[237]ках, каждый пятый с лепными мордами, каждый десятый с валькирией в нише. Такой же и университет, но как войдешь — родные узкие коридоры, облупленные двери и неприкаянные студенты.
Вена изо всех сил притворяется городом наших бабушек: на новенькой кондитерской написано «с 1776 г.», на ювелирном магазине (готикой) «бывший поставщик двора его кралецесарского величества». У Аверинцева в университетском кабинете между фотографиями усатого Миклошича и бородатого Трубецкого — огромный Франц-Иосиф в золотой раме. Сама Вена ездит на трамваях, а туристов возит на извозчиках, и извозчиков этих — лошади парою, а возницы в котелках — на улицах не меньше, чем трамваев. В публичных местах густо стоят памятники — тоже в стиле картинок из тех книжек в красных переплетах с золотым обрезом, которые дарили нашим бабушкам за прилежание в четвертом классе. Но не все: с ними, названия не имеющими, чередуются иные, называющиеся барокко. В книгах написано, что подлинным зачинщиком барокко был Микельанджело, но это неправда. Микельанджело говорил, что статуя должна быть такой, чтобы скатить ее с горы — и у нее ничего не отобьется. А эти статуи такие, что и на площади, кажется, вот-вот развалятся — столько из них торчит лишних конечностей. И все вздутые и вскрученные, как будто их сложили из воздушных шаров разного размера и облепили камнем. Поглядев на здешнюю Марию-Терезию (в окружении разных аллегорий), чувствуешь, что наша Екатерина перед Александрийским театром — чудо монументального вкуса. На гравюрах мы привыкли к таким размашистым жестам, как у Терезии и аллегорий; но когда они из чугуна, то я пугаюсь. Дворцы по бульварному кольцу тоже поважнее Зимнего: там на крыше стоят черные латники, а тут скачут золоченые всадники, а то и колесницы, и тоже все в чем-то развевающемся
И вот среди этого царства бабушек разных эпох стоит собор святого Стефана, ради которого, собственно, я только и выполз из своего жилья. Мне его стало очень жалко. Он высокий, старый, изможденный, и ему очень тесно. Почему большой — об этом в незапамятном детстве, когда меня безуспешно учили немецкому языку, я читал легенду, что его строитель ради этого продал душу дьяволу, но чем это кончилось, я не помню. Почему худой — потому что это поздняя готика, когда все башни похожи на рыбьи кости с торчащими позвонками, а подпружные ребра по бокам судорожно поджаты. Почему изможденный — то ли он в вечном ремонте, то ли порода у него такая, но серые стены цвета вековой пыли у него в больших светлых проплешинах, как на облезающей собаке. Почему тесно — потому что его вплотную обступили, высотою ему по колено, добротные домики XIX века, такие уютные, что ясно, никто никогда их не снесет, чтобы Стефана можно было хоть увидеть по-человечески. Видно, что за шестьсот лет он оттрудился вконец и хочет только в могилу, а ему говорят: ты памятник архитектурный, тебе рано. Вы человек, бывавший в Европе, и на эти мои чувства могли бы сказать вразумляюще «это везде так», и я бы утешился Но вас поблизости не было.