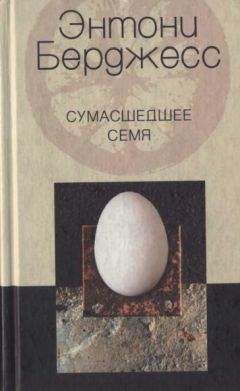Энтони Берджесс - Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса
Они — посредники между авторами и издателями, но автору кажется, что им все-таки ближе интересы издателя. Они могут ссориться с автором и даже отказаться от него как от помехи, но никогда не посмеют пойти против издателя. Ходкий товар они ставят выше произведений высокой художественной ценности, которые иногда все же проникают в издательские списки в результате сделки: я передаю вам безусловный бестселлер при условии, что вы издадите неприбыльную вещичку Генри Джеймса. Идет! Агенты не очень озабочены литературными достоинствами произведения, их вполне устраивают просто грамотно написанные книги, лишь бы их можно было продать. Обычно более высокая критическая компетенция не требуется. Янсон-Смит осторожно высказал свое мнение о «Докторе…» и предложил внести кое-какие изменения. Я огрызнулся, и он отступил, понимая, что превышает свои полномочия.
Поездка в Лондон для встречи с ним, состоявшейся в офисе, о котором я помню только то, что там стояла большая канистра с бензином, должна была увенчаться визитом в Неврологический институт для взятия спинномозговой пункции. Я не пошел в институт, боясь, что узнаю об увеличении объема белка в спинномозговой жидкости, что могло сократить мне жизнь и не дать написать новый роман. Моя неявка, похоже, привела к обратному результату, потому что я получил письмо от сэра Александра Аберкромби, в котором он писал, что белок в моей спинномозговой жидкости падает со стремительной быстротой, что дает мне шансы на жизнь. Это вызвало не восторг, а новые страхи: теперь я с осторожностью переходил улицу. Если, как я задумал, у меня получится засесть за длинный роман о второстепенном поэте, живущем в уборной, боги, чтобы разрушить мои планы, могут послать мне злокачественную анемию или быстротечную чахотку. Теперь, когда смерть от опухоли мозга отступила, на свете осталось еще множество болезней, которые могли привести к летальному исходу. Жизнь — вообще смертельная болезнь, но всегда надеешься отодвинуть конец. При этом следует остерегаться того, что можно назвать биотической спесью.
* * *Персонаж, которого предстояло назвать Эндерби, возник передо мной в ванной нашей хижины подле Бруней-тауна — видение, порожденное приступом малярии. Оно длилось какую-то долю секунды: сидя на унитазе, мужчина писал стихи. Я намеревался написать о нем роман в двести тысяч слов и назвать его просто «Эндерби». Но для богов смерти надо было сочинить что-нибудь поскромнее и покороче — скажем, «Мистер Эндерби изнутри». Затем, через какое-то время могло последовать продолжение «Мистер Эндерби снаружи» и, наконец, с героем можно было бы расстаться в «Конце Эндерби». Мне виделся очень некрасивый и одинокий мужчина средних лет, мастурбирующий холостяк, живущий в квартирке, похожей на ту, что снимали мы с Линн. Он часто уединялся в совмещенном санузле и, закрывшись от остального мира, писал очистительные стихи в том месте, где действительно происходит очищение. Для жилья он выбрал самую маленькую комнату, хотя вскоре ему предстояло переселиться в большую — так величайшие столицы в истории, зарождавшиеся, как маленькие поселения, со временем становились мегаполисами. Елизаветинцы произносили Рим как «рум»[134], а арабы и по сей день говорят: «Наши мечи и звезда воссияют на руинах Рума» (вспомним «Хассана» Джеймса Элроя Флеккера[135] и сексуальное воспитание, которым я обязан леди из «Ассоциации образования рабочих»[136]). Эндерби женили против его воли и увезли на медовый месяц в Рим, но в брачные отношения он так и не вступил и сбежал, чтобы поскорей вернуться в творческое одиночество. Однако Муза, разгневавшись, что ее покинули ради женщины из плоти и крови, мстит ему и уходит от поэта навсегда. Эндерби пытается покончить с собой, но эта попытка кончается ничем. Плохое состояние здоровья убеждает его, что поэзия, как и мастурбация, — утехи юности, и его долг перед новой социалистической или материалистической Британией — повзрослеть. В этом ему помогает состоящий на государственной службе психиатр по фамилии Уопеншо, и в конце романа наш герой с нетерпением ожидает места бармена в большом отеле.
Финал здесь совсем не печальный. В романе «Доктор болен» филолог Эдвин Прибой не делает ничего полезного, в то время как еврейские близнецы, заправляющие подпольным клубом, по крайней мере, спаивают своих клиентов. Эндерби, однако, не чужд литературе, и его стихи что-то вроде пены на поверхности нездоровой и асоциальной жизни. Можно презирать и осуждать его образ жизни — действительно невыразимо убогий. С другой стороны, в нем можно видеть последнего упрямого индивидуалиста, молчаливого бунтаря, который живет в каждом из нас, поддерживая творческий порыв, пусть и обреченный на провал. Он не творит добро, но и вреда не приносит. «Мистер Эндерби изнутри» — произведение умеренно двусмысленное, как и его продолжения. В стихах, которые сочиняет наш герой, тоже присутствует некая двусмысленность. Вот, к примеру, стихотворение, явившееся ему незваным в туалете поезда, едущего на Чаринг-кросс; сам он предположил, что это песнь Девы Марии:
В летящем месте общего «толчка»,
Проглоченная мощным чревом Евы,
Сперма сектантов капала с бачка.
Я был нигде и был никто, пока,
Чтоб благодати получать напевы,
Не стал покорным сыном чужака.
И смех его бродил в этой дыре,
И рыба, и червяк кривили в смехе зевы,
Чтоб маску ту добыть, что носит он в игре.
И хоть, как голубок, он искупил
Всю плоть мою своею, но у Девы
Тщетной любви терзаний не убил[137].
Именно это — одно из трех стихотворений, ранее не приписываемых Эндерби, снисходительно похвалил T. С. Элиот.
Так как приходилось писать стихи за Эндерби или воскрешать собственные, чтобы увеличить число его oeuvre[138], меня подчас идентифицируют с поэтом. Это не совсем справедливо. Я разделяю его тоску по своего рода дуализму, в котором нечистая плоть — очевидное свидетельство свободы духа. Эндерби, как и я, — католик в прошлом, но он еще и благочестивый затворник, воспаряющий над грешной плотью. У него, как и у меня, нескрываемый интерес к внутренним органам. До написания моего романа литература, за исключением «Улисса», где на протяжении страницы, а то и больше, мистер Блум находится в дачном туалете, предпочитала не упоминать о работе кишечника. Рабле этого не стеснялся и был прав. Даже у сладкозвучного Шекспира в комедии «Как вам это понравится» меланхоличный персонаж по имени Жак не гнушается говорить о том, что надо бы «прочистить желудок грязный мира», и ставит знак равенства между депрессией и запором. Реформация напрямую связана с запором Лютера. Я же, когда писал об Эндерби, страдал от сильного расстройства пищеварения. У Эндерби больной желудок — он скверно питается. Одет он плохо, не чисто выбрит, а так как в его ванне вперемешку свалены поэтические наброски, засохшие сандвичи и дохлые мыши, он еще и довольно нечистоплотен. В отличие от него, у меня аккуратная уэльская жена, она следит за моей одеждой и готовит здоровую, простую еду. Мое расстройство, возможно, было связано с волнением о предстоящем будущем, на которое письмо сэра Александра Аберкромби позволяло надеяться.
Как я уже говорил, жена не открыла ни одной моей книги, кроме первой, но позволила прочесть ей в постели некоторые места из «Мистера Эндерби изнутри» и нашла их забавными. К кухне Эндерби она добавила блюдо под названием «Спагетти с сырным сюрпризом». Главный персонаж ей понравился, и в этом она не осталась одинокой. Возможно, многие женщины в глубине души — шлюхи. И многие из них не любят женщин.
Что до Эндерби, он боялся женщин и даже испытывал к ним физическую неприязнь, если только над фотографиями не поработали способные порнографы. Возможно, я слишком обобщаю, но за годы супружества у меня сложилось убеждение, что женщины представляют опасность для художника. В моем романе Веста Бейнбридж — вдова гонщика, хотя предпочла бы стать вдовой поэта. Почившие художники — находка для женщин, они становятся украшением, которое можно приколоть к изящному траурному платью. Однако живые, посвятившие себя творчеству, вечному сопернику женщин, — они невыносимы. Пишущие женщины не могут относиться к литературе слишком серьезно: они понимают, что их занятие всего лишь суррогат подлинно творческого чуда — рождения детей. Когда Мэри Маккарти предположила, что роман ближе к сплетням, чем к искусству, она выразила женскую точку зрения[139]. Те женщины, которые всерьез воспринимают свою творческую миссию, рискуют потерять себя. Им приходится подняться над биологией, и природа за это мстит. Они одиноки, а одиночество женщины переносят хуже мужчин. Само имя Эндерби говорит об одиночестве: Земля Эндерби расположена в Антарктиде. Ему нужен холод и одиночество. Женитьба его непременно разрушит. Колокольный звон, называемый «Невесты Эндерби», в стихотворении Джин Инджелоу[140] предвещает кораблекрушение.