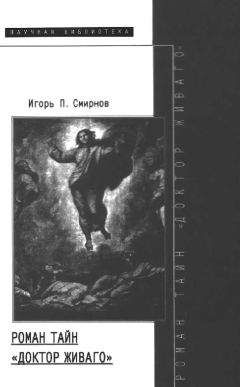Иван Толстой - Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
Около лестницы стоит стол для игры в «пинг-понг», на нем что-то уложено и накрыто брезентом. Тут же колонка с колодезной водой. За лестницей – штабеля дров. Дальше стоят две машины, кофейного цвета «Победа» и светло-серый «Москвич».
Слева от ворот начинается огород. Сейчас он, разумеется, гол. В центре торчит пугало, на палке какой-то старый пиджак, шляпа и детское ружье. Дальше – сад с вишнями и яблонями, с кустами крыжовника. Еще дальше – забор, за которым участок Федина.
Тобик и Бубик с лаем бросаются на Федина. Тобик побольше, старый, слепой на один глаз, пудель. Бубик – помоложе и пошустрей. Однако, узнав знакомого человека, они стихают и виляют хвостами» (там же, с. 55).
Сценка: Федин в кабинете Пастернака.
– Вот у тебя висит портрет Толстого, – говорит Федин, – величайшего реалиста, художника. А в книжном шкафу я вижу Кафку, Пруста, Джойса.
– И только? Больше ты ничего не увидел у меня в книжном шкафу «сомнительного»?
Пастернак приходит в крайнее возбуждение. Он порывисто распахивает дверцы шкафов и извлекает большую книгу. Он кладет ее на стол.
– Вот самая великая книга, написанная на земле! – повышая голос, произносит он.
Это – Библия» (там же, с. 62—63).
Пастернак у Кроткова изъясняется так: «Единственное человеческое в этом Поликарпове – его грудная жаба».
Или – о Федине, после неудачного разговора: «Еще один русский интеллигент умер, Ниночка».
Ниночка – это Нина Табидзе, гостящая у Пастернаков на даче.
«А в общем, девочки... петушусь я, петушусь, а сказать правду... страшно мне...», – вздыхает Пастернак.
В конце 1958 года издательство ЦОПЭ выпустило небольшой сборник «Дело Пастернака», переводя разговор в подчеркнуто политическую плоскость. Здесь были собраны некоторые биографические сведения о писателе, хроника событий, заграничные отклики, статьи русских писателей-эмигрантов и стихотворения из романа. Сборник был хорошим подспорьем для антисоветского пропагандиста. (Некоторые материалы из этой книжки мы приводим в Приложении.)
Видя, как удобен оказался Пастернак для политических спекуляций, Георгий Адамович взялся сформулировать свое горькое отношение к «Живаго». Он подбирался к этой теме не раз, но полнее всего выразился в радиопередаче об Александре Солженицыне, прозвучавшей по Радио Свобода 13 июля 1968 года:
«Всем известно, какой шум вызвало появление романа Пастернака: Нобелевская премия, телеграммы, статьи во всех крупнейших европейских и американских газетах. Даже сравнение с „Войной и миром“. Давно и справедливо было замечено, что не будь на „Доктора Живаго“ наложен запрет в Советском Союзе, не возникни затем постыдной травли Пастернака, выход его книги не превратился бы во всесветную сенсацию.
Перечитывая роман, убеждаешься с новой силой, как преувеличено было его значение. Да, бесспорно, «Доктор Живаго» – произведение поэта. Никто, кроме подлинного поэта, не мог бы написать нескольких прекрасных стихотворений, заключающих книгу, некоторых страниц второй ее части. Чувствуется, что автор – человек на редкость искренний, духовно порывистый, мучительно пытающийся разобраться во всем, чему довелось ему быть свидетелем, и писавший свою книгу, как завещание.
Однако сколько возникает «но» при чтении «Доктора Живаго». И не говоря уж о нелепом сопоставлении с «Войной и миром», сколько в этом романе глав, о которых Тургенев, по своей привычке, не преминул бы сказать, что они «воняют» литературой. Отрицать большой талант Пастернака и постоянное, как бы музыкальное, очарование этого таланта невозможно. Но даже и в завещании своем он не преодолел склонности к литературе в том дурном смысле этого понятия, который коробил Тургенева.
Перечтем главу, где доктор, с которым тут несомненно отождествляет себя автор, размышляет о характере своих писаний и признается, дальше я цитирую, что «всю жизнь мечтал об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной, привычной формы. Всю жизнь стремился к выработке сдержанного непритязательного слога». Признается он и в ужасе, охватывающем его при мысли о том, как он далек от этого идеала. Это страницы поистине удивительные. Непостижимо, почему же Пастернак, с такой проницательностью говорящий о литературном идеале, который, вероятно, одобрил бы и Толстой, Толстой, с презрительной яростностью отбрасывавший всякую показную, условную художественность, непостижимо, почему Пастернак на всем протяжении своего романа нагромождает сравнения и метафоры вплоть до того, что снег у него оказывается похожим на «белок яичницы-глазуньи», лунный свет уподобляется «пролитым белилам», весна «всходит на волшебных дрожжах существования», и так далее. Пастернак, по-видимому, не способен дать ни одного описания, не добавив слов «как» и «будто»: как то-то, будто то-то. И тут-то и возникают под его пером «белила», «яичницы» и «волшебные дрожжи».
В результате, в основе, бесспорно, благородное устремление пастернаковского замысла – защита одинокого человека, застигнутого революционной бурей, попытка отстоять его от судеб, от которых, по Пушкину, защиты нет, – устремление это притупляется. А внимание читателя мало-помалу рассеивается. Если по примеру Пастернака увлечься сравнениями, то можно было заметить, что «Доктор Живаго» похож на монолог человека, который хотел сказать что-то чрезвычайно важное, но сбился, запутался и чуть ли не похоронил свой замысел под цветами безудержного и однообразно-вычурного ораторского красноречия».
Вернемся в 1959 год. После мичиганского и миланского «Доктора Живаго» наступил черед по-настоящему масового издания – меньше карманного формата, на папиросной бумаге: ее называют еще рисовой, индийской или библейской. Роман вышел в двух видах: однотомником и двумя маленькими томами. На обложках желтого цвета стояли переплетенные буквы «БП». Книги были выпущены никому не известным французским издательством «Société d'Edition et d'Impression Mondiale», но отпечатаны в реально существующей парижской типографии «Imprimerie d'Orléans», где выходило множество других эмигрантских книг. Правда, знака копирайта на карманных «Живаго» опять не было, то есть издание оказалось пиратским от начала до конца. Текст романа предварялся анонимным предисловием «Свеча человечности и правды».
«В известном смысле, – писал некий эмигрант, – писатель тот же врач: он нащупывает больное место, интуитивно определяет болезнь и ее причины и помогает здоровому началу организма справиться с нею. Но задача писателя много сложнее, ибо он имеет дело не с телом и душой отдельного человека, а с духом человека вообще, тем самым – с духом эпохи. И чем значительнее творение писателя, тем глубже проникает оно в поддонные бездны духа человеческого. Тем шире обнимает и выражает эпоху. Борис Пастернак идет этим единственным правильным путем. Завещанным ему лучшими традициями высочайших представителей русской литературы. Он хорошо понимает, что
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
(Тютчев)
Неверие в высший Смысл мира породило неверие в жизнь, – и историческая вьюга событий, ставшая уже совершенно стихийной и вовсе безликой, нечеловечески темной и жестокой, грозит задушить последние, слабые, казалось бы, проявления свободной человеческой личности. Личности, стремящейся к жизни, а, следовательно, противоставляющей себя морозным вихрям безликой мертвенной стихии.
Нагие, лишенные всяческих одежд – культурных, социальных, даже национальных, – как блуждающие ноябрьские листья разносятся эти личности зимними вьюгами по всей необъятной земле, по всей нашей застылой стране; иногда приникают они другу к другу, приникают особенно любовно и задушевно – ибо ничего кроме голой душевности у них и не осталось, а они ищут какого-то сочувствия и тепла: но вновь порыв зимней ночной вьюги отрывает их друг от друга, несет их в даль, торжествующе поет самому себе оды, похваляется своей силой и умерщвляет все живое, противостоящее ему. Об этом порыве зимних и ночных вьюг говорит писатель. «Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и поднимались дыбом волосы. Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, – не только бессмысленно и бесцельно, писать так – низко и бессовестно. Мы далеки еще от этого идеала», – говорит в своем «Биографическом очерке» (1957—1958) Борис Пастернак.
И он не пошел по «низкому и бессовестному» пути. Он создал произведение, вынашивавшееся им всю его жизнь, произведение новое по форме, только условно названное им «романом», ибо нельзя нашу смятенную и всклокоченную жизнь, нашу историческую ночную метель втиснуть в узкие рамки раз и навсегда законченной формы: с началом и концом, с фабулой и резко очерченными характерами. Борис Пастернак сделал много больше, чем написал новый роман: он не только мучительно-ярко воплотил разгул ночной вьюги на нашей земле, на нашей Родине, – а и заставил уверовать в жизнь и смысл ее. Да, это так: ночная зимняя вьюга непроглядна и свирепа, изнемогающие путники не видят кругом ни зги, уже изверились в спасении, но вот где-то в одиноком окне мелькнул путеводный огонек: «свеча горела на столе», – и уже уверенней идет спутник сквозь ночь и вьюгу смерти на свет человечности и любви, начинается верить в себя, в жизнь, в спасение: