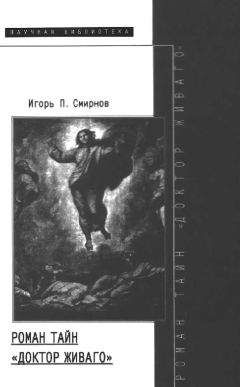Иван Толстой - Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
«возмущался развязанной против него в СССР кампанией. Год с лишним спустя, столкнувшись с новым ее отголоском, он в письме Сувчинскому от 28 февраля 1960 г. шлет проклятия „советским собакам (набросившимся на бедного Пастернака)“. Однако Доктора Живаго Стравинский не принял; месяцем раньше, 27 января, он писал Сувчинскому: „Прочел в русском подлиннике „Доктора Живаго“ и с грустью признаюсь в своем разочаровании: да ведь это настоящее передвижничество! Как странно читать в век Джэмс Джойса такой роман (написанный после него)“» (Козовой, с. 237).
В 1963 году на Западе появился советский литератор Юрий Кротков, член Союза работников кинематографии, автор пьесы «Джон – солдат мира», посвященной певцу Полю Робсону. Советский-пересоветский писатель, Кротков, прилетев с делегацией в Лондон, немедленно попросил политического убежища. Из Англии он переехал в Париж, оттуда – в Нью-Йорк. Память Кроткова была набита самыми причудливыми историями, связанными с его второй профессией: в течении десяти с лишним лет он работал на КГБ, в его задачу входило внедрение в среду и разработка иностранцев, занятых в Москве на дипломатической службе. Кротков постоянно крутился среди писателей, которыми со своей стороны интересовались западные журналисты. О своих заданиях и о методах работы советской контрразведки Кротков рассказал специальной сенатской комиссии американского Конгресса, а затем и историку Джону Баррону, автору известной книги «КГБ», в огромной степени основанной на рассказах Кроткова.
Одним из оперативных заданий Кроткова была слежка за Пастернаком. В подробности этого задания Кротков позднее не входил, но, судя по его знакомству с деталями, знал о положении дел в Переделкино не понаслышке. В 1962 году он поселился в переделкинском Доме творчества и регулярно навещал Зинаиду Николаевну, вел с ней разговоры и, по его словам, готовился к честной книге о Пастернаке.
Бежав за границу, он принялся за ее написание. Книга включала размышления о творчестве, картины подмосковной природы, выдержки из пастернаковских произведений, разговоры его домочадцев и личные наблюдения за дачей, поданные как сторонние картины быта. В 1966 году франкфуртский журнал «Грани» начал печатать воспоминания Кроткова, озаглавленные «Пастернаки», но текст подвергся в редакции столь сильным изменениям, что автор в знак протеста забрал рукопись. Претензии к «Пастернакам» предъявляли не только «Грани» (главным редактором в те годы была Наталья Тарасова), но и другие эмигранты, познакомившиеся с манускриптом. Например, в письме к Глебу Струве Борис Филиппов писал о Кроткове:
«Он не только пошл: он подл, я буквально не могу читать его opus'bi. У меня во время оно была его рукопись „Пастернаки“ с гнусными инсинуациями на З. Н. Пастернак и Ивинских (о последних написано было, что они были явно нечистоплотны в денежном отношении – и обирали самого Б. Л. Пастернака)» (новогодняя открытка без даты, по контексту – начало 1970-х, коллекция Г. П. Струве, box 84, file 2).
В 1972 году в нью-йоркском «Новом Журнале» появился отрывок из кротковского киносценария «Борис Пастернак». В 1980-м все эти вещи были переработаны на английском языке в книгу «Нобелевская премия», встреченную критикой очень прохладно. Сюзан Зонтаг написала, что самое ценное у автора – это приведение кличек пастернаковских собак.
Тем не менее, другого столь подробного чекистского свидетельства о Пастернаке не существует. Киносценарий Юрия Кроткова начинался так:
«Гос. дача Хрущева.
Просторная гостиная. В центре – массивный стол из ореха. Да и все остальное: кресла, диван, шкафы, все массивное и из ореха. Панели стен тоже ореховые. Повсюду ковры. Под потолком – хрустальная люстра. На стенах – картины, изображающие революционную деятельность Ленина.
За столом сидит курносая девочка лет пяти с бантом на голове; перед ней – тарелка с манной кашей. Но девочка к каше не прикасается, она ковыряет ложкой клеенку и лениво разглядывает присутствующих. (...) Хрущев, толстый, коротконогий, видимо, вернулся с охоты. На нем байковый костюм, высокие резиновые сапоги. На животе висит патронташ. Лицо круглое, шея бычья, глаза маленькие, острые, как у хорька, губы беспокойные – все время в движении. Он держит в руках охотничье ружье.
В креслах сидят: секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и зав. отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов. Слева от Хрущева стоит Генеральный секретарь Союза Советских писателей Алексей Сурков. (...) – Шляпы! Проворонили! – сердито говорит Хрущев. – Не выйди «Доктор Живаго» в Италии, не было бы этой петрушки…
– Я сделал все что мог, Никита Сергеевич, – говорит Сурков.
– Слышал. Поликарпов вас и в Рим посылал. Покуражились там, товарищ Сурков. А толку с гулькин нос. Итальянский издатель, хоть и коммунист, показал вам шиш. «Доктор Живаго» вот уже сколько. два года разгуливает по белу свету и позорит нас. (…) Ох, не весело быть коммунистическим вождем, товарищ Сурков.
– Пока существует капиталистическое окружение, – начинает Сурков.
– А где это вы эдакий костюмчик отхватили? – перебивает Хрущев. – Небось в капиталистическом окружении? А ну, повернитесь. Шик-блеск. Надо бы и мне такой справить.
– Могу дать адрес портного, – шутит Сурков. – Париж, бульвар Капуцинов.
Хрущев, неожиданно вспыхнув, ударяет кулаком по столу и кричит:
– Падлы! Мишке Шолохову Нобелевской не дали, а этому червивому Пастернаку.
Девочка плачет. Хрущев подходит к ней и садится рядом.
– Да ты не скули, внучка, – ласково говорит он. – Ну-ка, давай кашки пошамаем.
Суслов и Поликарпов переглядываются. Хрущев кормит девочку кашкой, с ложки, умело.
– Докладывайте, товарищ Суслов, – одновременно говорит он.
Суслов, глядя в свой блокнот, произносит:
– Вчера Борис Пастернак послал в Стокгольм такую телеграмму: «Бесконечно благодарен, тронут, горжусь, изумлен, недостоин».
– Надо было оставить в тексте одно слово: «Недостоин», – перебивает Хрущев. (...) А как эта баба. как ее. Ольга, что ли? Спит он с ней?
– Она его литературный секретарь, – отвечает Сурков.
– Она его друг, сама поэтесса. Да, между ними любовь. Кажется, она настраивает Пастернака против нас...
– При Сталине сидела бы уже, – бросает Хрущев.
– Она при Сталине уже сидела, Никита Сергеевич, – говорит Сурков.
– Я вот разжал кулак, свободу дал, болван. – Хрущев встает из-за стола. – Ох, черт, опять колики в брюхе. Попили молочка у колхозничка. Микоян-то жив? Армяне, они, правда, выносливые. Нина! Нина!
(...) В гостиную входит жена Хрущева. Она среднего роста, «в теле», с простым, но добрым лицом. На вид ей лет пятьдесят пять. Поверх темного платья надет передник.
– Слушай, ты прочитала «Доктора Живаго», как я тебе велел?
– Не кончила еще.
– В сон клонит?
– Малость.
– Про чего книга?
– Не знаешь что ли?
– Знаю – не знаю, – я хочу, чтоб ты сказала, ты, простая советская баба.
– Я не простая. У меня образование.
– Про чего там?
– Про жизнь человеческую. Только мудрено очень.
– Про Ленина есть?
– Нету, – Нина понижает голос: – Я вам, товарищи, совет дам. У вас ведь «прокол». Послушайте «простую» советскую бабу. Напечатайте «Доктора Живаго». Ну, две-три тысячи экземпляров. Больше не раскупят. Прочитает только наша интеллигентная знать. Не пойдет она в народ. И никто ничего и знать о ней не будет. о книге.
(...) Хрущев снова вспыхивает:
– Дура, Нинка, дура ты. Мы не имеем право спускать на тормозах, как сказал товарищ Сурков, идеологическую диверсию. На Западе роман используют, как бомбу, – Хрущев смеется. – Ступай, простая советская баба, на кухню и потроши зайцев.
(...) – На Кузнецком мосту, товарищ Хрущев, – говорит Поликарпов, – в центре Москвы, спекулянты продают «Доктора Живаго» из-под полы. Хрущев интересуется:
– Почем за штуку?
– 100 рублей.
Хрущев от неожиданности свистит.
– Это на русском языке. Эмигрантские издания. В Западной Германии, – говорит Суслов.
– Арестовывать их надо! – восклицает Хрущев.
– Эмигрантов? – спрашивает Поликарпов.
– Спекулянтов, – отвечает Хрущев. – (...) Ну вот что, товарищи. Довольно лясы точать. Надо показать овощу этому кузькину мать. Передайте Пастернаку, что я ставлю вопрос ребром: либо он немедленно откажется от Нобелевской премии и напишет покаянное письмо мне и в «Правду», либо.» (Киносценарий, с. 43—48)
В другой сцене Кротков приводит ценные детали, описывая, как Константин Федин идет по поручению Дмитрия Поликарпова на пастернаковскую дачу уговаривать соседа отказаться от премии:
«Это двухэтажное деревянное строение, сруб, с застекленными верандами наверху и внизу. Позади дачи – сосновая рощица. Справа – небольшой одноэтажный флигель и забор, за которым начинается участок писателя Всеволода Иванова. Центральный вход в дом осенью уже закрыт. Входить теперь надо, поднимаясь по лестнице, через „Тамбур“ и кухню.