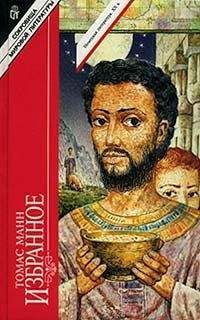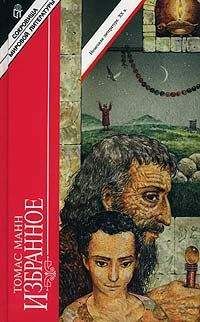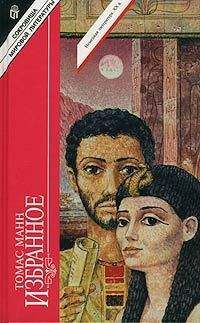Меир Шалев - Секреты обманчивых чудес. Беседы о литературе
Подобные же чувства вызывает у него встреча матери и сына — очень тяжелая минута, с точки зрения монаха:
Мне не хочется при этом присутствовать, да и вы сами способны разве лишь смутно, сквозь слезы стыда и страха, следить за тем, как она сжимала его голову в своих ладонях, а он, почти касаясь губами ее рта, прошептал ее имя в первом признании, как она влила в этот шепот звук его имени.
Бедняга Клеменс! Хотя он не хочет присутствовать при этой встрече, он там находится. И хотя нам, читателям, он велит смотреть на происходящее «лишь смутно, сквозь слезы стыда и страха», сам он одаряет нас замечательным, трогательным и волнующим описанием того, как тепловатый воздух плывет меж губами влюбленных, когда этот воздух вдыхается и выдыхается, переходя из одного рта в другой.
И поскольку он видит свое поражение — не как писатель, а как монах, — он пытается цензурировать себя: «Все это я опускаю и обхожу; не мне вдаваться в такие вещи, — пишет он, рассказывая о свадьбе грешного сына с несчастной матерью, и добавляет: — В супружеские радости Григорса я вникаю лишь из духовной отваги». В сущности, он ведет себя, как ребенок, который закрывает глаза и думает, что отменил реальность. Ведь он только что сам описал эту свадьбу. Только что извлек эту картину из мрака на свет, и любая цензура уже бесполезна.
И еще одна правда вскрывается в этой фразе. Когда Клеменс говорит: «Не мне вдаваться в такие вещи», — он, в сущности, отказывается от религиозных или этических самооправданий и использует чисто профессиональную аргументацию: я не разбираюсь в «таких вещах», — говорит он, и, если вы ищете описания любви, поищите себе более осведомленного в этой области писателя. Однако постепенно его осведомленность о чисто профессиональной и художественной стороне писательского творчества возрастает. Это касается и вопроса о необходимом иногда изучении писателем той или иной специфической темы, что требует упомянутых Филдингом обязательных писательских качеств — образованности и широких контактов с соответствующими людьми. Когда Клеменсу нужно описать рыцарскую охоту, он говорит о той трудности, которая должна быть известна всякому писателю:
Что смыслю я в рыцарстве и в ловитве! Я — чернец, по сути не сведущий во всех этих делах и немного пред ними робеющий. Я никогда не хаживал на вепря, не слышал, как гремит рог перед травлей оленя. […] Я только делаю вид, что могу складно рассказать о воспитании юного принца Вилигиса. […] Но таков уж дух повествования, воплощаемый мною; он делает вид, будто отлично разбирается во всем, о чем ведет речь.
Эти свои якобы «складные» описания Клеменс очень красиво определяет, как «мнимо непринужденные разглагольствования о материях, весьма мне далеких». И хотя он как бы извиняется за этот обман перед читателем, его определение является очень точным. Тут наконец из-за монашеской рясы Клеменса выглядывает Томас Манн собственной персоной, и я абсолютно уверен — он обеими руками подписывается под заявлением Клеменса, что речь идет лишь о видимости, или имитации писательской эрудиции. И когда монах говорит, что лишь «делает вид, будто отлично разбирается во всем, о чем идет речь», Томас Манн присоединяется к нему с улыбкой и с молчаливым согласием. Хорошо, что он делает это, и хорошо бы он не был единственным, кто признает эту уловку «духа повествования».
Давайте посмотрим: в «Иосифе и его братьях» Томас Манна очень подробно описывает жизнь на Ближнем Востоке в древние времена. В «Волшебной горе» он в деталях обсуждает вопросы лечения туберкулезных больных. Но разве он сам археолог? Историк? Врач? Туберкулезник? Можем ли мы требовать от него профессиональной эрудиции и опыта во всех этих областях?
Помните ли вы искусство очковтирательства, которое позволило маленькому Шолом-Алейхему поражать своими «знаниями» учителей и родственников. Он тоже «только делал вид, что знает, усердно раскачивался, читал нараспев — обманывал, бесстыдно обманывал учителя». И подобно ему (а также Клеменсу и Томасу Манну), большинство писателей тоже лишь имитируют эрудицию. Мы описываем исторические, технические и другие профессиональные реалии, как будто мы их хорошо знаем. Обман, с этим связанный, не является грехом. Он составляет часть уговора между читателем и писателем: оба они признают право на литературную выдумку и оба они заинтересованы в иллюзии точности и достоверности описываемого мира.
Этот невинный обман порой порождает смешные ситуации. Ко мне нередко обращаются люди с просьбой объяснить им что-нибудь, связанное с выпечкой хлеба, подрезанием растений или образом жизни серых ворон, потому что все это было описано в моих книгах «Эсав», «Русский роман» и «Как несколько дней». Когда вышел в свет роман «В доме своем в пустыне…», один ученик средней школы попросил меня быть научным руководителем его работы по биологии, которую он хотел посвятить муравьиному льву. Мой герой имел дело с таким насекомым, и, поскольку в книге он описывал свои наблюдения от первого лица, этот школьник приписал мне знания профессионального энтомолога, которых у меня нет.
Иногда, однако, знания писателя имеют реальные корни. Мы понимаем, что познания Германа Мелвилла в охоте за китами шире, глубже и аутентичней, чем познания Клеменса в охоте на вепрей. Ясно также, что Джек Лондон разбирается в правилах мореходства лучше, чем я в обтесывании камня или А.-Б. Иошуа в кардиологии. Но это особые случаи. Обычно писатель демонстрирует точечные знания, приобретенные для нужд данной книги. Поэтому его нужно судить не по тому, насколько глубоки его знания предмета, а по тому, как он эти знания применяет в своем рассказе. Надо судить его по критериям художественным, а не профессионально-техническим, судить, помня прекрасное высказывание Лоренса Стерна, сказавшего, что лучше согрешить против истины, чем против красоты, и что первый грех скорее заслуживает прощения.
В сущности, единственная область, в которой у писателя есть абсолютное знание и абсолютное превосходство над читателем — это знание того, что должно произойти в рассказе. У Клеменса есть кое-какие соображения и на эту тему. Когда Григорс тренируется перед рыцарским поединком, Клеменс говорит, что он победит, и добавляет: «Как рассказчик, я вижу все наперед… я знаю, что было дальше, и должен рассказать эту историю так, как к вящей славе Своей направил ее Господь». Но поскольку он знает, что победа Григорса приведет к его запретной любовной связи с собственной матерью, он отстраняется и говорит:
Ах, если б я мог без оговорок и в приятном неведенье разделить упоительный восторг и всеобщее ликованье. […] От таких излияний меня удерживает мысль об ужасных последствиях этой победы.
Вернемся теперь к борьбе, происходящей в душе Клеменса, — борьбе между верой и искусством. Хотя монах всячески хочет показать, что им руководят вера и мораль, мы уже видели, что страсти, порожденные творческим процессом, начинают вмешиваться в его работу. Он обнаруживает, что процесс письма вызывает в его душе страдание, волнение и счастье — чувства, о которых в начале книги он говорил: «Я, так сказать, закален против счастья и против страданья».
Эти подспудные изменения становятся заметны уже после описания смерти Вилигиса, доставляющей Клеменсу «настоящее горе». То самое горе, от которого, по его словам, он закален.
Ах, я неутешно скорблю об этой утрате! Тут рассказ мой доставляет мне настоящее горе, которое, как и настоящее счастье, не отпущено моему монашеству в действительности. Вполне возможно, что и пишу я это только лишь для того, чтобы хоть как-то отведать человеческого страданья и счастья.
Кризис все углубляется. Он уже не просто монах, которого выбрал своим орудием дух повествования, чтобы описать жизнь Папы Григория Святого. Он все больше становится настоящим писателем, и его закаленность «против счастья и против страданья» начинает обнаруживать свою слабость и даже вредоносность. Ибо, когда он приступает к описанию тяжелого положения Сибиллы, он ощущает, что его монашество мешает ему в этой работе:
На очереди весть о грешнице-матери, о том, как худо ей все еще приходилось. Поистине, на долю этой женщины выпало столько страданий, что не знаю, в силах ли уста мои достойно передать их словами. Я отлично чувствую, что мне не хватает опыта. Мне не суждено было изведать ни настоящего счастья, ни настоящего горя. Я живу как-то межеумочно, огражденный своим одиночеством и от того и от другого. Потому, должно быть, я и прибегаю к аллегории, чтобы описать страданья моей героини.
Кровосмесительство вызывает у Клеменса не только отвращение, но и крайнюю осторожность. Человеческие страдания заставляют его почувствовать, насколько он ограничен и неопытен. Но, как и во многих других книгах, полная правда открывается в маленькой, как будто бы несущественной сцене. На этот раз это сцена выпивки: