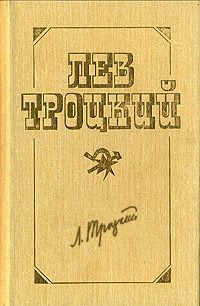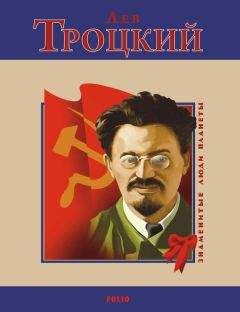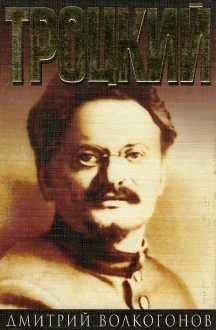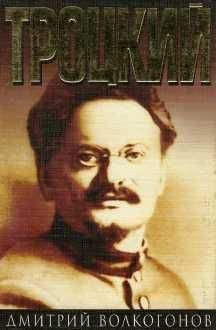Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
О пророчествовании Мережковского мы говорили не в условном, не в переносном и уж никак не в ироническом смысле. Мережковский мистик не в том расширительно-неопределенном толковании, в каком это слово стало употребляться в литературе последних лет, где говорят о мистике половой любви, о мистической личности государства и даже, кажется, о мистике построчной платы. Нет, Мережковский, как отозвался о нем Чехов в одном письме, «верует определенно, верует учительски». Он считает — и это его исходная точка, — что «жизнь без бога и смерть без воскресения делают не только каждого человека, но и все человечество гниющею массой» Свою религию он называет апокалипсической. Он ждет грядущего завета, который окончательно примирит плоть и душу, Ветхий и Новый завет. Через историческое христианство он зовет к религии Троицы. «Именно догмат о Троице и связывает неразрывною связью историческое христианство с христианством апокалипсическим». «Каждая из трех божеских Ипостасей, — разъясняет он, — есть соединение двух остальных, так что всю полноту Троицы можно выразить символическим числом 333. Повторенное в дьявольском зеркале, удвоенное 333 дает 666». Как ни сомнительна сама по себе эта математическая комбинация (а мы решительно не советовали бы вводить ее в школьные учебники арифметических упражнений), но она достаточно красноречиво свидетельствует, что Мережковский «верует учительски, верует определенно». Не вдаваясь более в область новой апокалипсической догматики, где мы по неопытности рискуем сильно напутать, ограничимся еще только одним выразительным примером.
«Вам кажется, — обращается Мережковский к Бердяеву в „Открытом письме“, написанном в тоне посланий апостола Павла, — что для меня не решена проблема о дьяволе. Вы ошибаетесь: для меня эта проблема решена окончательно».
• «Проблема о дьяволе» — чего стоит одно лишь сочетание этих двух слов! Перед торжественной серьезностью мыслителя, окончательно разрешившего проблему о дьяволе, бессильной падает ирония. И таков Мережковский всегда. Остроумие — абсолютно несвойственная ему черта. Все «проблемы» своей веры — бессмертие, дьявола, и 333, и 666—он ставит с сосредоточенной серьезностью. Среди бела дня и громогласно он приглашал однажды Бердяева себе в сопророки, — чем, вероятно, немало напугал этого кокетливого философского фланера. Не сваливаясь от неудач, ходит г. Мережковский в хаосе нашего не-апокалипсического времени, как «некто в черном»… — как некто в черном сюртуке.
Ибо не ряса на г. Мережковском, а сюртук, притом отличнейшего французского покроя, как свидетельство того, что перед нами человек светский, отнюдь не собирающийся отрекаться от благ мира сего. В ожидании грядущего завета г. Мережковский не только постное приемлет, но и скоромненькое. И скоромненькое-то даже предпочтительно.
Его мистика — не нетерпеливая, не стремительная. Он вовсе не чувствует себя в походном шатре, наоборот, его наклонности оседлые, он хочет, очень хочет обстоятельно осмотреться тут, на земле. Он видит даже «великую неправду или, вернее, великую неполноту» в самочувствии первых веков христианства с их стремительно-нетерпеливым ожиданием конца. Да и нельзя в предсмертном настроении века жить. С того времени, как первые ученики верили, что «конец при дверях», прошли тысячи лет — и еще могут пройти, и еще. И в этой медленности всемирно-исторического процесса, который ведет от первого пришествия ко второму, есть, по Мережковскому, своя «желанность». Правда о вечности не должна заслонять правды о времени, и тоска по вечности не должна мешать нам пользоваться комфортом. В этом и состоит самая суть «нового религиозного сознания».
Г. А. Блок упрекал нас, непризванных, в том, что мы не понимаем Мережковского, не видим, как душа его раздирается на части: он взыскует вышнего града и в то же время влюблен в культуру. Не любит ее, как мы, расчетливо-прозаической любовью, а влюблен, как художник, как Дон-Кихот.
Что Мережковский к культуре крепко привязан, это так. Но почему же — как Дон-Кихот? Любовь Дон-Кихота не только фанатична, но и фантастична и в своей фантастичности безнадежна: это любовь к тому, что осуждено историей, борьба за то, чего отстоять нельзя. Но какая опасность грозит тому накопленному богатству веков, в которое «влюблен» Мережковский?
Однако существует к культуре активное и страстное — и в то же время отнюдь не дон-кихотское — отношение: у социально-обездоленных, у пробужденных масс, которым еще предстоит только проложить себе дорогу к культуре. Но и такая любовь не удел Мережковского: ему нет нужды ни доказывать, ни осуществлять свое право на культуру, — ему остается любить ее спокойной и удовлетворенной любовью обладания. Греческие классики, отцы церкви, французские эротики — он всем этим пользуется так же натурально, как карманными часами или носовым платком. Культура — от комнатного комфорта до высших эстетических ценностей — не клад, который он боится утратить, и не идеал, которого он хочет достигнуть, а данная ему среда. Среда же (по Мережковскому «середина») — это плоскость, мещанство, удовлетворенное мещанство — это хамство. Где же искать спасения от погружения в хамство облагороженного культурного прозябания? И вот тут на выручку является мистика. В ней Мережковский имеет сверхкультурную санкцию культуры, гарантию того, что, посасывая культуру, он совершает высшее дело и, главное, не является просто гниющим человеческим мясом, хотя бы и цивилизованным. Культура и Вечность — два устоя Мережковского. Вечность — это самая льготная отсрочка платежа по моральным векселям, предъявляемым культурой. Примиряя с культурными противоречиями и с самим собою, Вечность гарантирует еще, сверх всего прочего, за пределами культуры в высшей степени заманчивое продолжение.
* * *Мережковский просто оказался ранним культурным индивидуалистом, преждевременным европейским себялюбцем в исторической среде, враждебной такому типу, ибо все еще дышало здесь коллективными чувствами и настроениями. В борьбе за свое самосохранение Мережковский отгородился от всех и строил себе свой личный храм, изнутри себя. Я и культура, я и вечность — вот его центральная, его единственная тема. Среди русских интеллигентных мистиков, в большинстве своем новейшей формации, Мережковский стоит особняком, как мистик коренной. Струве, Бердяев, Булгаков и другие из материалистов становились полумистиками и мистиками в меру того, как слева направо передвигались их политические симпатии. А Мережковский справа налево передвигал свои политические симпатии в борьбе за сохранение своего мистицизма. От освящения самодержавия он пришел к христианско-анархическому идеалу теократического вневластия — не потому, что искал правды человеческих отношений, а исключительно под влиянием потребностей личного своего самоутверждения, но всестороннего, так, чтобы уж совершенно себя обставить и «здесь» и «там», чтобы ни о чем уж больше не беспокоиться. Революционная эпоха произвела трещину в его индивидуалистической скорлупе и показала, что есть на свете не только «я» и культура, но и третий фактор: масса, — и Мережковский допустил массу в свои внутренние покои, впрочем, лишь чуть дальше порога, да и не реальную народную массу, а для своего обихода им самим выдуманную, «самую апокалипсическую в мире». Идеальная христианская общественность оказывается лишь перелицовкой апокалипсического тысячелетнего царства святых на земле и практически ни к чему не обязывает. «Почти невозможно найти даже первую реальную точку для теократического действия», — меланхолически жалуется сам Мережковский, — и тем не менее не подвергает своего земного идеала никакой ревизии, ибо для него дело идет, по существу, не о том, чтобы перевернуть этот неправедный мир, а о том, чтобы мистически истолковать его. Стоит ли тревожиться из-за невозможности общественного действия, раз «проблема дьявола» разрешена окончательно!
В противоположность Ивану Карамазову, который бога-то еще соглашался принять, но мира, им созданного, с жертвами безвинными, с младенцами замученными, не принимал и почтительно, т. е. в сущности дерзостно, возвращал свой билет, г. Мережковский мир готов принять всегда, и с Победоносцевым, и с анархией, — только под одним условием: чтобы ему этот мир мистически посолили, дабы не загнил и не провонял.
Так он и оставался, этот ранний европейский себялюбец, в русских условиях чужеродной фигурой в корректном черном сюртуке. «В России меня не любили и бранили, — жалуется Мережковский, — за границей меня любили и хвалили; но и здесь и там одинаково не понимали моего». В этой справедливой жалобе есть маленькое фальшивое самоутешение. Верно, что Мережковского за границей хвалили, т. е., собственно, похваливали, но совсем неверно, будто его там любили. Европейцы, да и то лишь романские, одобряли автора «Леонардо», как писателя, хорошо знакомого с Европой, по крайней мере, с внешней оболочкой ее культуры, как образованного европейца из варваров; но о какой бы то ни было значительности его в идейном обиходе Запада и речи быть не может. А на родине, которая вся содрогалась от внутреннего напряжения, именно потому и не любили и не хвалили его, что во всех его превращениях неизменно открывали одного и того же мистика-наблюдателя, человека со стороны, себялюбивого чужестранца. От своего одиночества Мережковский искал в разных местах укрыться, но всегда без успеха. У иерархов, с которыми он много общался, он находил официальное самодовольство и совсем не мистическую казенщину. «Не ершитесь и не суемудрствуйте, — говорили ему, — а становитесь, куда укажем! У нас все предусмотрено». Со стороны либералов он встречал лишь скептическую благожелательность: «Нас спасать не нужно, мы и сами как-нибудь спасемся, а вы попытайтесь в массах: там мы вас поддержим против левых»… Наконец, у левых, т. е. у интеллигенции (глубже Мережковский никогда не заглядывал), он находил «настоящих религиозных подвижников и мучеников», но— увы! — мучеников во имя человечества, подвижников без бога.