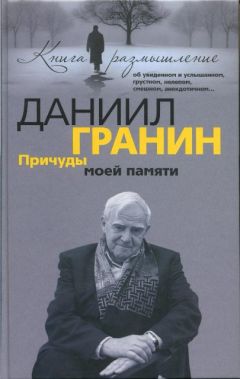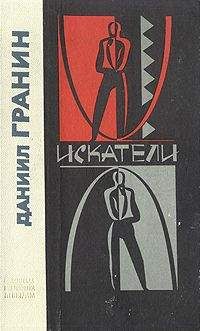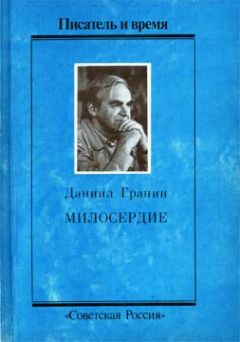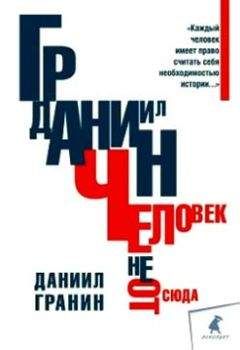Даниил Гранин - Причуды моей памяти
У Густава Флобера есть повесть «Простая душа». В сущности, это тоже о простой душе, но в условиях тех пылающих, страшных девятисот дней блокадной жизни.
Начато 14 марта 1993 г.
Глубокоуважаемый Даниил Александрович!
Простите ради бога, если я займу Ваше время.
Я уже несколько лет собиралась Вам написать, да никак не могла решиться. Когда вышла Ваша и Александра Михайловича Адамовича «Блокадная книга», я даже хотела Вас увидеть или позвонить Вам. Тогда же, будучи в Ленинграде, узнала Ваш адрес, но Вы были больны, и я не осмелилась навязываться. А тут годы идут, мне уже 70 лет, а написать нужно о женщине, которой я обязана жизнью. 26 марта этого года (1993 г.) было 50 лет со дня ее смерти, а я живу только потому, что умерла она. Живу в долг. И понимаю это всю жизнь. Моя сестра все эти годы просит меня: «Напиши о Поле, ведь ты больше знаешь!» И больше откладывать нельзя — можно не успеть. Теперь каждый день — как сто лет, и все эти события, что мы переживаем, благотворно на здоровье никак не влияют — наоборот.
У Вас, наверное, кроме того, что вошло в «Блокадную книгу», еще много записей о человеческих судьбах блокадников. Мы с сестрой очень хотим, чтобы и о ней хоть что-то сохранилось не только в нашей памяти.
Если Вам не трудно, прочтите, пожалуйста, то, что я Вам напишу, а дальше уж Ваша воля — оставить ли это в Вашем архиве.
Конечно, надо представиться. Я — Галина Иосифовна Мах, 1923 года рождения, выросла и в 1941 году окончила школу в Ленинграде, всю блокаду пережила, работала санитаркой, потом медсестрой в госпиталях. После войны окончила Пединститут им. Герцена (филфак). Уже много лет живу на Украине, но все мое — в Ленинграде. И там же живет моя сестра. Я уже давно на пенсии. Это — если коротко — все.
По моей и моей сестры судьбе прошли все жернова нашей чудовищной эпохи. Ничего, кажется, не миновало. Теперь это все очень трудно осмыслить, вернее, трудно признаться себе, что, в сущности, жизнь прожита зря. А может, нет? И так тяжело!
Кажется, что рухнули все остатки надежд; и не только для нас, но и для наших детей и внуков. Простите за это отступление.
Теперь я буду писать о том, ради чего и решилась написать Вам.
Мои родители были если не фанатичными, то, во всяком случае, убежденными большевиками. А люди — очень хорошие. Уж как так сложилось — кто его знает! Одна история рассудит. Об этом пишет и Булат Окуджава в своей последней статье в «Известиях» о своих родителях.
Из нищей одесской еврейской семьи — мама, пережившая четыре погрома, а потом, можно сказать, сама себя из грязи и нищеты вытащившая.
Из чешской (с Волыни) крестьянской семьи, где было 10 детей и хлеба едва хватало до рождества, — отец.
Ясно, что они революцию с ее лозунгами приняли. Отец в Гражданской войне участвовал. А потом они стали «партийными работниками». И я их в этом не виню, не имею права. Это их беда и беда миллионов людей.
После всех переездов с места на место (почему-то таких людей все время тасовали, как карты в колоде) отца после 16-го партсъезда, на котором он был делегатом, с Дальнего Востока неревели в 1931 году в Москву — директором Дорогомиловского завода. А образования было 3 класса сельской школы.
Но он был такой — самородок, невероятно талантливый, начитанный, толковый. В истории — в любой эпохе как дома! Просто удивительно, когда успел! Но к технике это отношения, понятно, не имело, а иногда такая должность называлась «красный директор».
А мама была инструктором горкома. Я понимаю, что она могла быть прекрасной учительницей, библиотекарем, журналисткой, да мало ли кем! А вот поди ж ты!
Я все понимаю, и я их люблю, и память о них люблю, и бесконечно их жалею! Лично они (я это знаю точно) никому зла не сделали, никого не предали, а вот на эту сволочную систему работали!
И вот в Москве появилась у нас в семье домработница — Пелагея Константиновна Щербакова, наша Поля. Она сразу стала членом семьи, всеобщей любимицей. Она была родом из деревни Орешково Воротынского уезда Калужской губернии? (так она говорила). Родилась в крестьянской семье в 1904 году. Образование — почти как у нашего отца: 2 или 3 класса сельской школы. Отец потом говорил, что если б Полю учить — из нее великий бы человек получился (по ее способностям).
Тогда (в 1931 г.) как раз шла коллективизация, и родители отправили ее в город, в Москву, желая спасти, благо как раз случай представился: друг отца поехал в гости в свою деревню Орешково и, по просьбе моих родителей, привез ее к нам.
Стали мы вместе жить. Поля вела хозяйство. Я тогда училась в первом классе, а сестра еще ходила в детский сад.
В 1932 году отца перевели в Ленинград. Он стал директором завода абразивного станкостроения, а мама опять же инструктором (ну и должность же!) горкома, в Смольном работала. Жили мы у Мальцевского рынка — на улице Красной Связи, д. 17/5, кв. 82, ходили с сестрой в школу, что на углу 9-й Советской и Суворовского проспекта (школа 156-ая Смольнинского района). Школа была, надо сказать,— чудесная! Учителя! Ну, действительно, ни одного плохого не было! Это мне повезло. А класс! Какие хорошие, толковые ребята! И сколько мальчиков потом погибло!
Даниил Александрович! Вы меня простите за подробности и отступления. Такая потребность выговориться. Я переписываю это в мае, а начала писать в марте. И на фоне этих страшных теперешних событий, этой каши, бессмыслицы и, для меня, отсутствия света в конце туннеля — единственный способ сохранить живую душу.
Я понимаю, что Вам и без меня хватает трудностей, но… Простите!
Я ни на что не претендую, ни на какое напечатание, ни на что! Только бы это где-нибудь сохранилось. Может, когда и понадобится кому-нибудь.
Мама работала в Смольном, хорошо знала Кирова еще по работе в Баку, дружила потом с его женой и была невольной свидетельницей его смерти: вылетела вместе с другими инструкторами в коридор, услышав выстрел, и видела, как он умер. А за пять минут до этого эти женщины-инструкторы говорили с ним на лестнице, по которой он поднимался, идя в свой кабинет.
Естественно, что летом 1938 года их арестовали. Мурыжили долго. Отец сидел в «Крестах», в одной камере с Рокоссовским (в камере 213). Рокоссовский был у них «старостой».
Из отца выбивали, что он друг врагов народа (Блюхера, например), что он — английский шпион и проч. Об этом я знаю из его письма Сталину, которое он умудрился передать на волю, а я возила в Москву. Ничего не выбили. Осталось только, что он «социально опасный элемент», т. к. чех по национальности.
Мама сидела на Шпалерке в одиночке, и ей тоже приписали «соц. оп. элемент»: «антисоветское поведение в связи с арестом мужа». Если б что-то выбили, то они получили бы «10 лет без права переписки», т. е. расстрел. А так — 5 лет лагерей. Мама отбывала в Долинке в Карлаге, а отец — в Вятлаге (Соцгородок Кайского района).
А мы остались с Полей. Две комнаты опечатали, потом их заселили, а нам оставили две маленькие. В детприемник не взяли. Мне было 15 лет, Зоре — 12. Поля оформила над нами опекунство, т. е. фактически удочерила!
Когда я читала «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана, то прочитала у него, что многие родственники и друзья арестованных людей переставали звонить оставшимся родным, отворачивались на улице при встрече — боялись. А простые женщины — соседки, домработницы, няньки — не боялись ничего. Носили в тюрьму передачки, опекали детей, писали в лагерь письма, слали посылки.
Вот наша Поля была такая. Она на нас работала, она нас обшивала, она стояла в очередях, чтобы купить нам что-то из одежды. Я помню, как она несколько ночей подряд стояла в очереди, чтобы купить мне туфли. Она ездила с нами на Острова гулять, чтобы мы на воздухе были. Она следила, как мы делаем уроки, сердилась, если меньше часа сидели за роялем, (учились музыке во Дворце пионеров, а она дала маме слово, что музыку не бросим).
Она готовила еду, все покупала, стирала на нас. Господи! Что мы ей были? Чужие дети!
К зиме 1938 года из Баку приехали две дальние мамины родственницы, стали распределять, куда деть вещи: рояль, комод, мамины платья. Вообще-то кроме маленького рояля, доставшегося по случаю при обмене квартиры, ни единой ценной вещи не было. У мамы никогда в жизни не было ни одной золотой вещи. Единственное крепдешиновое платье она ни разу не успела надеть. Было, правда, по тем временам, много книг — два стеллажа. Отец собирал. Читали они много, не знаю, когда и успевали.
Поля теткам сказала: «Как что тут стояло, так и будет стоять. Я дала Бакинской слово, что все будет, как при ней». Поля почему-то не могла выговорить Эстер Моисеевна, а называла маму — «товарищ Бакинская», с какой-то певучей особенной интонацией, я просто и сейчас слышу. Сестра слышала, как одна из теток сказала: «Поленька, их все равно расстреляют, так лучше детей сразу в детдом отдать!» На что Поленька ответила: «Я дала слово, что детей не покину, пока жива».