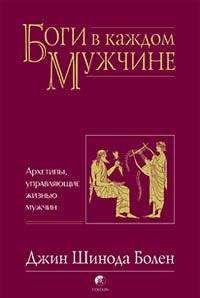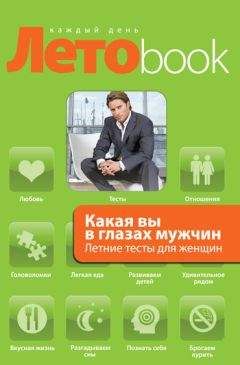Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник)
Ну так ани у ваз ездь.
Близнец
Я разговаривал с Борисом Березовским три раза в жизни, и хотя это были большие двухчасовые интервью (все – в Лондоне, потому что в Москве я не входил в его окружение и ничем не мог ему пригодиться), личных воспоминаний у меня практически нет. Мне много о нем рассказывали общие знакомые: больше и достовернее остальных – превосходный прозаик Юлий Дубов, о чьем вынужденном проживании в Лондоне я вместе с русской литературой очень жалею. По этим скудным впечатлениям и по наблюдениям за его бурной деятельностью в девяностые я, однако, сформировал для себя некий образ, равно далекий от ангела и демона.
Никакого демонического обаяния в Березовском я не чувствовал, поскольку оно, видимо, процентов на девяносто зависело от его могущества, а когда я его видел, особого могущества уже не было. Думаю, если Владимиру Путину доведется пережить свою власть, от его ауры останется и того меньше. Березовский показался мне человеком чрезвычайно быстроумным, энергичным, отлично чувствующим собеседника и напрочь лишенным второго дна. Большинство успешных людей эпохи девяностых были именно такими – реактивными, быстрыми и плоскими.
Сейчас доводится слышать: у оппозиции нет шансов, если уж сам Березовский почувствовал, что сопротивление бессмысленно, да еще и написал в Кремль покаянное письмо, которого никто почему-то не опубликовал, хотя, будучи своевременно напечатано, оно подняло бы рейтинг власти лучше, чем десять разоблачительных фильмов о Борисе Абрамовиче. Якобы в последнем интервью, которое он сам же потребовал не записывать (?!), он много говорил о волевых качествах Путина, победившего оппозицию… В общем, власть и ее присные попытались извлечь из смерти Березовского максимум пропагандистского эффекта, и все это, как обычно, без тени доказательств. Разговоры о том, что Березовский потерял смысл жизни, имеют под собой чуть более твердую почву, но тут неточность в формулировке. На самом деле Березовский потерял очень много денег (и соответственно влияния), а именно они и были смыслом жизни. Шансов свергнуть Путина у него в 2003, 2005 или 2007 годах было куда меньше – но тогда он вовсе не так сильно тосковал по России, не высказывал намерения вернуться (скорее уверенность, что рано или поздно вернется) и говорил, что день, прожитый в Лондоне, нельзя считать прожитым зря. Ностальгия его увеличивалась в обратной пропорции к состоянию. Что касается перспектив сопротивления – сегодня они как раз не дают основания для депрессии: в каком-нибудь 2008 году все выглядело куда безнадежнее. Сегодня власть десакрализована, «Единая Россия» трещит по швам, кипрское деньготрясение вызвало у российской верхушки вполне предсказуемую панику, и сколь бы триумфально ни прошла Олимпиада-2014, ясно, что для режима она будет примерно тем же, чем сто лет назад обернулась Первая мировая (тоже поначалу вызвавшая в массах восторг и сплочение вокруг престола). Так что основания для депрессии у Березовского, безусловно, были, но с российскими делами они связаны в последнюю очередь. Что до его тоски по России – нет сомнений, он ее действительно искренне любил, в отличие от многих счастливо проживающих тут олигархов или чиновников, беспрерывно клянущихся в патриотизме, но любил примерно так, как удачливый и опытный игрок любит Монте-Карло: ни к березкам, ни к пальмам эта любовь не имеет отношения. Россия была для Березовского оптимальной сферой деятельности, полем его игры, и такого поля, как Россия девяностых, у людей его склада больше не будет нигде и никогда, даже в России 2020-х. Он мог здесь реализоваться наиболее полно и по этой реализации действительно скучал, поскольку для Березовского жить – значило действовать. Рефлексировать, каяться или отвлекаться на искусства он мог только в паузах – во время кратких отдыхов или авиаперелетов. Беспрерывная и лихорадочная деятельность, сумасшедший азарт – вот истинное лицо Березовского, и удивительно, что, лишившись этого поля, он прожил тринадцать лет. Он был не из тех, кто может жить надеждами или воспоминаниями. Ему надо было планировать, разруливать, низводить, создавать, экспериментировать, чудесно спасаться – в этом смысле он был абсолютной реинкарнацией Троцкого, судьбу которого так полно повторил. Единственное различие состоит в том, что в смерти Березовского бессмысленно искать след кремлевского ледоруба. Он был нужен именно живым – как вечный виновник всего. На какого заграничного кукловода будут валить теперь – ума не приложу; и они там, наверное, тоже беспокоятся.
Перманентный революционер Троцкий, доведись ему получить всю власть, мог быть для народов СССР и поужаснее Сталина, но в качестве изгнанника и антисталиниста выглядел, конечно, обаятельнее. Ровно в этом же смысле Березовский выглядел обаятельнее Путина, поскольку для него борьба была целью, а не средством; додавливать оппонента, отбирать последнее, бетонировать пространство – не в его стилистике, поскольку он всегда успевал отвлечься на новые планы. Никакого особенного благородства в Березовском не было – как и в Ленине; просто он, в отличие от Сталина или Путина, не находил наслаждения в том, чтобы именно добить оппонента. Он был чистым прагматиком, а добивание ведь непрагматично – оно нужно скорее для удовольствия. У Березовского были другие удовольствия: азарт и безумие очередной комбинации, сам процесс красивой или, по крайней мере, неожиданной атаки. Ни о какой сверхпрозорливости в его случае речи не было – он ошибался часто и всегда это признавал; страсти у него всегда было больше, чем расчета. Но, по крайней мере, садистом, ловящим кайф от чужого унижения, или маньяком, чье единственное наслаждение состоит в неограниченной власти, он точно не был. Действовать ему нравилось больше, чем пожинать плоды; его стихия – не аналитика, а штурм и натиск. Если бы не февраль семнадцатого, Ленин бы тоже недолго прожил в Швейцарии – у него случались в это время крайне пессимистические признания, вроде того что революцию едва ли увидят внуки нынешних большевиков. Ночь, как известно, темнее всего перед рассветом.
Он был человеком девяностых, как и созданная им Галатея; режим этой Галатеи ничем принципиально не отличается от ельцинского, кроме закрытости и цинизма. Воруют не меньше, криминала даже больше – просто у него поменялась крыша, – а почти ничем не ограниченный произвол совершенно тот же; разговоры о поднятии с колен, независимости от Запада и равноудалении олигархов можно оставить для западных комментаторов, которые здесь не живут. Правда, при Ельцине была надежда, что ситуация изменится, – плодом этих надежд является до сих пор приличный рейтинг Путина; однако большинству уже ясно, что дело не в Ельцине и не в Путине, а в стране, не желающей брать на себя труд самоуправления. После Ельцина сменилась фамилия президента – после Путина сменится политическая система. Безусловно, у лондонских изгнанников тогда будет шанс вернуться – но уже в качестве специалистов по прикладной математике или другим их первоначальным занятиям.
Для Владимира Путина, возможно, смерть Березовского – действительно грустное событие, и не только по ностальгическим соображениям, и даже не потому, что исчез Универсальный Виновник, и не потому даже, что это очередное напоминание о конечности всего. А просто лондонский изгнанник был в каком-то смысле сиамским близнецом нынешней российской власти. Как известно, Чанг и Энг Банкеры – та самая сросшаяся сиамская пара – сильно различались по характеру. Чанг много пил, скандалил, любил азартную игру – Энг его осуждал и вообще был склонен к здоровому образу жизни. Однако когда Чанг умер от пневмонии, Энг, совершенно здоровый, пережил его совсем ненадолго.
Не сбылось совсем… хотя «ненадолго» в масштабах истории – понятие растяжимое.
Большой театр Роберта Конквеста
Роберт Конквест прожил почти столетие, он успел не только написать самую популярную книгу о Большом терроре (каковое понятие введено в обиход им же), но и увидеть доказательства своей правоты. Было два художественных исследования, как Солженицын с присущей ему точностью обозначил жанр, которые перевернули западное представление о России и в особенности о большевизме. Не случайно «детьми Солженицына» называли себя французские философы, в том числе Глюксманн, избавившиеся от социалистических иллюзий и преодолевшие моду на все левое. Солженицын заставил пересмотреть романтическое отношение к Ленину и сдержанно-доброжелательное – к Сталину, которого уважал сам Черчилль, вы подумайте, и который все-таки спас мир от фашизма. Но – сейчас я скажу вещь достаточно рискованную – книга Конквеста представляется мне более принципиальной, в каком-то смысле более значимой, чем «Архипелаг ГУЛАГ». И влияние ее было глубже, что стало видно только сейчас. Притом что у Конквеста – англо-американского Радзинского, сказал бы я, – было много произвольных цифр, весьма ограниченный доступ к источникам (он пользовался в основном открытыми свидетельствами оттепельной поры да советской прессой тридцатых), эффектные, но не всегда достоверные версии (скажем, он рисовал Николаева – убийцу Кирова – мрачным фанатиком, убежденным антикоммунистом и не сомневался, что Сталин лично готовил убийство). Многое с годами прояснилось, кое-что опровергли, другое уточнили, но заслуга Конквеста не в том. В отличие от Солженицына – считавшего в конце шестидесятых, что все дело в коммунизме, в людоедской его природе, – Конквест справедливо полагал, что никаким коммунистом Сталин не был, и вообще для нас, большевиков, идеи не фетиш. Величайшее историческое свершение Конквеста заключается в том, что он убедительно доказал: книга о терроре может быть международным бестселлером с многолетним запасом прочности. Террор – это очень интересно, прямо-таки увлекательно.