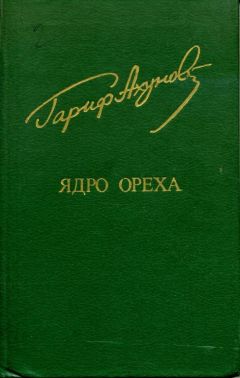Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Собственно, в обаянии этого характера — секрет стихов Д. Сухарева: неожиданной простоты его пейзажей, и подкупающей доверительности его интонации, и того соединения интимности и пафоса, без которого невозможно петь «высокие песни», глядя друг другу в глаза.
А лирика Д. Сухарева — это высокая, гражданская, патриотическая лирика. Всяко, заметим, можно писать патриотические стихи. У Дмитриева: «Мы — смоленские, мы — тверские, нас попробуй-ка одолей!» Прекрасно. А если вы киевские? Или калужские? Или кавказские? В. Павлинов: «Но, по мне, и Кавказ и Коми — это, в сущности (!), та же Русь». Ленин по этому вопросу писал: «всего более важно, чтобы коммунисты Закавказья поняли своеобразие их положения, положения их республик, в отличие от положения и условий РСФСР…» Русь тоже должна бы все это понмать. Так откуда же такие поэтические казусы?
Все оттуда же: от нарочитости, от кокетничанья, от этой кондовой народности. У Кострова: «Вот цветет у каждого завода свой кусочек дедовской Руси…» Не верю, что Кострову нужна дедовская Русь. Это опять красоты стиля. Это опять игра в слова. А поэзии нужно истинное чувство. И поэзия все-таки вот здесь:
Часто мать мы зовем по-домашнему просто — мамаша,
Но Россию всегда называем единственно — мать.
Матерей не находят, не ищут по странам заморским.
Не берут, как невесту, по вкусу, по выбору в дом.
Матерей узнают по морщинам да пальцам замерзлым,
Заскорузлым и ласковым, нас одевавшим с трудом…
Это Дмитрий Сухарев.
В заключение еще два слова о так называемой новой фигуре в нашей молодой поэзии. О том «непрофессиональном поэте», сочетающем «образованность» и «опыт», которого мы поначалу наметили себе в положительные герои. Нет такой новой фигуры, и нет такого нового типа непрофессионального поэта. Четверо «молодых специалистов», поселившихся под обложкой «Общежития», кажутся похожими лишь до тех пор, пока они задают вопрос о герое. Как только они начинают отвечать на вопрос, они моментально оказываются разными. На это вся надежда.
1962
ТО, ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ КНИЖНОСТЬЮ
Очень много стали о книжности говорить. Книжные отроки в повестях гуляют и в романах; критики этих отроков препарируют; поэты показывают читателям мозолистые руки, либо — если нет мозолистых рук — хватают геологические молотки и бегут в дорогу, набивая мозоли на ногах, честно искореняя книжность из стихов своих.
Книги или дороги? — так ставят сегодня вопрос. Книги — жизнь выдуманная. В дорогу!
Как сказал молодой геолог и поэт Вл. Павлинов, — плевать нам на все бумаги — лишь бы руки не подвели.
Геологический бунт против бумаги — мода недавняя и, видимо, недолговечная; бунт этот достаточно бесхитростен и быстро изживает себя: пыль дорог кажется более реальной, чем пыль библиотек, пока дороги «зовут», как орнамент на карте; мы можем даже собственнолично ходить по этим дорогам, но ни следа действительного нашего бытия не окажется в тех следах, которые мы оставим на дорогах, пока будут они для нас специальной панацеей от книжности. Ибо реальность, искусственно создаваемая в противовес книжной, — та же выдумка, только вывернутая: сколько всамделишной грязи ни соберешь на сапоги, — реальность эта кажущаяся, потому что она подстроена. Сегодня с книжностью воюет символический бородач в штурмовке, а вчера воевал с книжностью символический романтик-десятиклассник; смена костюмов в поэзии — тоже интересное зрелище, но более важным кажется мне другое: вот уже десять лет меняет костюмы молодой герой нашей лирики, а ненависть его прикована все к тому же неуловимому противнику, которого в яростных филиппиках именует он книжностью. Как-никак, а в середине XX века с его всеподчиняющим производством духовных систем, с его разветвленным культом знания — эта непрекращающаяся атака на книжность сама по себе много более интересна, чем тот очередной костюм, в котором кидается на свои ветряные мельницы наш обросший в походах юный геолог. Десять лет назад, помнится, этот юноша не был столь яростен; он даже слегка гордился своей книжностью; устами Роберта Рождественского он звонко провозглашал: «Вышли в свет романтики, все у книг занявшие…» Тревога проскользнула у Владимира Соколова: «И в листьях слышишь шорох книг и книжек. Но книги правду говорят лишь тем, кто смеет жить всерьез…» В поисках этой серьезной жизни заметался Евгений Евтушенко: «О правде гадали по строкам в Гайдаре», — и началась атака на обманную книжную экзотику.
Критика тогда же стала осмыслять эту тенденцию; Ю. Суровцев был один из первых, кто описал ее; статья Ю. Суровцева о грузинских лириках «филологического поколения» была, кажется, первой попыткой осознать книжность молодого героя в связи с его реальным историческим опытом. Ю. Суровцев писал об «исключительно гуманитарной подготовке» грузинских лириков послевоенной волны, о «несколько изолированной от практической жизни обстановке», о «неустоявшихся характерах и малюсеньком запасе собственных жизненных наблюдений…». «Сравнительно несамостоятельная, бесхлопотная, сравнительно далекая от больших и малых практических треволнений повседневной жизни», — так описывал Ю. Суровцев нашу юность и, видя в этом истоки проклятой книжности нашей, предсказывал, что изжить книжность поможет лишь «начало собственной трудовой деятельности, а вместе с ней начало накопления собственного опыта, лично «заработанного, личными усилиями добытого…» (Юрий Суровцев. Близость к жизни и глубина поэзии. «Литературная Грузия», 1958, № 4, 5, 6).
Прошло шесть лет.
Устоялись характеры.
Началась «собственная трудовая деятельность», появились «треволнения повседневной жизни»; «лично заработанный опыт» сделал наших сверстников всесоюзно известными поэтами.
И тут выяснилось, что проблема не решена. Что книжность остается вопросом вопросов…Что бичуя и проклиная ее, поэзия продолжает, как заколдованная, ходить вокруг этой магической точки… Что самые откровенно книжные поэты по каким-то парадоксальным законам упорно продолжают попадать в центр внимания.
Осенью 1959 года в журналистских кругах Москвы разнесся слух о необыкновенной девушке, которая, всю жизнь по болезни проведя в четырех стенах и не покидая своих Мытищ, лишь по книжкам одним достигла такого поэтического умения, что хоть сейчас издавай. Парадокс подтвердился, когда «Комсомольская правда» посвятила этой поэтессе половину газетной полосы; в предисловии к стихам говорилось, что девушка, написавшая их, «много читала, много слушала, много думала. Книги, радио и люди доносили до нее образы и ароматы жизни, великую красоту и силу искусства». Подборка имела успех, и в декабре газета вторично дала щедрые полстраницы для новых стихов дебютантки. В следующем году ее уже печатали ведущие журналы. В 1961 вышла книжка.
Новелла Матвеева получила признание.
Удивительность этого дебюта заключалась в том, что новизна и свежесть открылись в поэзии откровенно, подчеркнуто, исключительно книжной.
«Рембрандт». «Рубенс». «Киплингу». «Памяти Пришвина». Это названия стихотворений. Темы и аксессуары поэзии Новеллы Матвеевой литературны и экзотичны. Джунгли. Обезьяны и попугаи. Колокольчики лиан и «чудовищный цветок» алоэ. Гайавата (в переводе И. Бунина): синеют в сумерках вигвамы, скользят пироги под ветвями. А вот — с крестами и виски — коварные миссионеры. Джонни с винчестером, сигарой и кольцом от Мери дорогой. А вот Фриц, мечтающий о своей Лотхен. А вот «британец властный». Старое фламандское вино. Манжетка гнома. Мокрые грибы под деревом и записная книжка доброго старичка… От Киплинга до Пришвина, как сама поэтесса хорошо сказала, — «полный книгами старый дом».
Книжность — материал ее поэзии. Книжен и сам ход ее раздумья. Архивариус — символичный герой. «Его стихия — старая бумага… Раскопок ждут бумажные пласты… Читает он с глубоким видом мага… Мгновение — и старый документ, как заклинанье, выудит из мрака гиганта с волосами из комет».
Это сказано о себе: Матвеева расшифровывает иероглифы, знаки, символы. Она берет кусочек янтаря и, как настоящий архивариус, прочитывает в нем «леса, которых нет». Берет снежинку. «— Как сложилась песня у меня? — вы спросили. Что же вам сказать? Я сама стараюсь у огня по частям снежинку разобрать…» Она, словно снежинку, разбирает отвлеченные законы жанров: «завидую далеким временам, когда сонет мешал болтать поэтам…» — и все ее искусство может и впрямь показаться выращиванием бумажных цветов и изобретением литературных редкостей: «О! Многое Шекспир вложил в уста сонета, но ведь осталось же несказанное где-то».
Домысливать недосказанное другими — право, занятие для следователя, не для поэта.
Поэт открывает мир заново, открывая в этом мире себя.