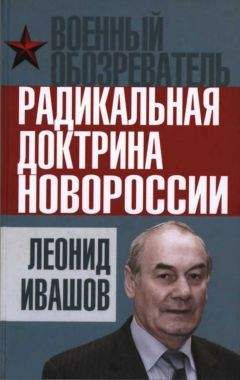Лев Троцкий - Проблемы культуры. Культура старого мира
II
Какой из этих двух Толстых, поэт или моралист, завоевал большую популярность в Европе, было бы не легко определить. Несомненно во всяком случае, что сквозь снисходительную усмешку буржуазной публики над гениальной наивностью яснополянского старца проглядывает чувство своеобразного нравственного удовлетворения: знаменитый поэт, миллионер, один из «нашей среды», более того: аристократ – по нравственным побуждениям носит косоворотку, ходит в лаптях, колет дрова. Тут как бы некоторое искупление грехов целого класса, целой культуры. Это не мешает, конечно, каждому буржуазному колпаку смотреть на Толстого сверху вниз и даже слегка сомневаться в его полной вменяемости. Так, небезызвестный Макс Нордау{122}, один из тех господ, которые философию старого честного Смайльса, приправленную цинизмом, переряжают в клоунский наряд воскресного фельетона, открыл – со своим настольным Ламброзо[154] в руке – во Льве Толстом все признаки вырождения. Для этих лавочников помешательство начинается там, где прекращается барыш.
Но глядят ли на него его буржуазные почитатели подозрительно или иронически или благосклонно, он для них все равно – психологическая загадка. Если оставить в стороне пару его ничтожных учеников и пропагандистов – один из них, Меньшиков[155], играет теперь роль русского Гаммерштейна[156], – то придется констатировать, что в течение последних 30-ти лет своей жизни Толстой-моралист всегда стоял совершенно одиноко. Поистине трагическое положение проповедника в пустыне… Весь во власти своих земельно-консервативных симпатий, Толстой непрестанно, неустанно и победоносно обороняет свой духовный мир от угрожающих ему со всех сторон опасностей. Он раз-навсегда проводит глубокую борозду между собой и всеми видами буржуазного либерализма – и в первую голову отбрасывает прочь «общее в наше время суеверие прогресса».
«Прекрасно, – восклицает он, – электрическое освещение, телефоны, выставки и все сады Аркадии со своими концертами и представлениями, и все сигары и спичечницы, и подтяжки и моторы; но пропади они пропадом – и не только они, но и железные дороги и все фабричные ситцы и сукна в мире, если для их производства нужно, чтобы 99/100 людей были в рабстве и тысячами погибали на фабриках, нужных для производства этих предметов».
Разделение труда обогащает нас и украшает жизнь нашу? Но оно калечит живую душу человеческую. Да сгинет разделение труда! Искусство? Но истинное искусство должно соединять всех людей в идее бога, а не разъединять их. Наше же искусство служит только избранным, оно разобщает людей, и потому в нем ложь. Толстой мужественно отвергает «ложное» искусство – Шекспира, Гете, себя самого, Вагнера[157], Беклина.
Он сбрасывает с себя материальные заботы о хозяйстве, об обогащении и наряжается в крестьянское платье, как бы совершая символический обряд отречения от культуры. Но что скрывается за этим символом? Что противопоставляется в нем «лжи», т.-е. историческому процессу?
Общественную философию Толстого мы могли бы на основании его произведений представить – с некоторым насилием над собою – в виде следующих «программных» тезисов:
1. Не какие-либо железные социологические законы производят рабство людей, а узаконения.
2. Рабство нашего времени происходит от трех узаконений: о земле, о податях и о собственности.
3. Не только русское, но всякое правительство является учреждением для совершения посредством насилия безнаказанно самых ужасных преступлений.
4. Истинное социальное улучшение достигается только религиозно-нравственным совершенствованием отдельных личностей.
5. «Для того чтобы избавиться от правительств, надо не бороться с ними внешними средствами, а надо только не участвовать в них и не поддерживать их». Именно: а) не принимать на себя звания ни солдата, ни фельдмаршала, ни министра, ни старосты, ни присяжного, ни члена парламента; б) не давать добровольно правительствам податей, ни прямых, ни косвенных; в) не пользоваться правительственными учреждениями, а также деньгами государства ни в виде жалованья, ни в виде пенсий; г) не ограждать своей собственности мерами государственного насилия.
Если из этой схемы удалить, по-видимому особняком стоящий, четвертый пункт о религиозно-нравственном совершенствовании, то мы получим довольно законченную анархическую программу: на первом плане чисто механическое представление об обществе, как о продукте злых узаконений; далее формальное отрицание государства и политики вообще и, наконец, как метод борьбы, пассивная всеобщая стачка и всеобщий бойкот. Но, удаляя религиозно-нравственный тезис, мы в сущности устраняем единственный нерв, который соединяет всю эту рационалистическую постройку с ее зодчим: с душой Толстого. Для него – по всем условиям его развития и положения – задача состоит не в том, чтобы на место капиталистического строя установить «коммунистическую» анархию, а в том, чтобы охранить общинно-земледельческий строй от «внешних» разрушительных влияний. Как в народничестве, так и в своем «анархизме» Толстой представляет аграрно-консервативное начало. Подобно первоначальному франкмасонству[158], которое стремилось идеологическим путем восстановить и упрочить в обществе касто-цеховую мораль взаимности, естественно разрушавшуюся под ударами экономического развития, Толстой силой религиозно-нравственной идеи хочет возродить чистый натурально-хозяйственный быт. На этом пути он становится консервативным анархистом, ибо ему прежде всего нужно, чтобы государство с бичами своей солдатчины, со скорпионами своего фиска оставило бы в покое спасительную каратаевскую общину. Наполняющей собою землю борьбы двух миров: буржуазного и социалистического, от исхода которой зависит судьба человечества, Толстой не понимает вовсе. Социализм в его глазах всегда оставался лишь мало интересной для него разновидностью либерализма. В его глазах Маркс и Бастиа[159] являются представителями одного и того же «ложного принципа» капиталистической культуры, безземельных рабочих, государственного принуждения. Раз человечество вообще попало на ложную дорогу, то почти безразлично – пойдет ли оно по ней немного дальше или немного ближе. Спасти может только поворот назад.
Толстой никогда не может найти достаточно презрительных слов по адресу науки, которая думает, что если мы еще очень долго будем жить дурно «по законам прогресса исторического, социологического и других», то наша жизнь сделается в конце концов сама собою очень хорошей.
Зло нужно прекратить сейчас, а для этого достаточно понять, что зло есть зло. Все нравственные чувства, исторически связывавшие людей, и все морально-религиозные фикции, выросшие из этих связей, Толстой сводит к абстрактнейшим заповедям любви, воздержания и сопротивления, и так как они (заповеди) лишены какого бы то ни было исторического, а значит и всякого содержания, то они кажутся ему пригодными для всех времен и народов.
Толстой не признает истории. В этом основа всего его мышления. На этом покоится метафизическая свобода его отрицания, как и практическое бессилие его проповеди. Та человеческая жизнь, которую он приемлет, – былая жизнь уральских казаков-хлебопашцев в незанятых степях Самарской губернии – совершалась вне всякой истории: она неизменно воспроизводилась, как жизнь улья или муравейника. То же, что люди называют историей, есть продукт бессмыслицы, заблуждений, жестокостей, исказивших истинную душу человечества. Безбоязненно-последовательный, он вместе с историей выбрасывает за окно наследственность. Газеты и журналы ненавистны ему, как документы текущей истории. Он хочет все волны мирового океана отразить своей грудью. Историческая слепота Толстого делает его детски беспомощным в мире социальных вопросов. Его философия, – как китайская живопись. Идеи самых различных эпох распределены не в перспективе, а в одной плоскости. Против войны он оперирует аргументами чистой логики, и, чтоб подкрепить их силу, он приводит мнения Эпиктета[160] и Молинари[161], Лао-Тзе[162] и Фридриха II[163], пророка Исайи[164] и фельетониста Гардуэна[165], оракула парижских лавочников. Писатели, философы и пророки представляют для него не свои эпохи, а вечные категории морали. Конфуций[166] у него идет рядом с Гарнаком[167], и Шопенгауэр видит себя в обществе не только Иисуса, но и Моисея. В трагическом единоборстве с диалектикой истории, которой он противопоставляет свое да-да, нет-нет, Толстой на каждом шагу впадает в безвыходное противоречие. И он делает из него вывод, вполне достойный его гениального упорства: «несообразность между положением человека и его моральной деятельностью – говорит он – есть вернейший признак истины». Но это идеалистическое высокомерие в самом себе несет свою казнь: трудно назвать другого писателя, который так жестоко был бы использован историей вопреки своей воле, как Толстой.