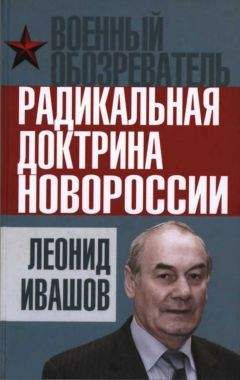Лев Троцкий - Проблемы культуры. Культура старого мира
Как жалка, в сущности, эта старая Россия со своим обделенным историей дворянством – без красивого сословного прошлого, без крестовых походов, без рыцарской любви и рыцарских турниров, даже без романтических грабежей на большой дороге; как нищ внутренней красотою, как беспощадно ограблен сплошной полузоологический быт ее крестьянских масс!
Но какое чудо перевоплощения создает гений! Из сырого материала этой серой и бескрасочной жизни он извлекает ее сокровенную красоту. С гомеровским спокойствием и с гомеровским чадолюбием он всех и все одаряет своим вниманием: Кутузова, помещичью дворню, кавалерийскую лошадь, графиню-подростка, мужика, царя, вошь на солдате, старика-масона, – он никому не дает преимуществ и никого не обделяет. Шаг за шагом, черта за чертой он создает необъятную панораму, в которой все части связаны нерасторжимой внутренней связью. В своей работе Толстой нетороплив, как жизнь, которую он рисует: страшно вымолвить – семь раз он переписывает свое колоссальное произведение… Может быть, самое поразительное в этом титаническом творчестве то, что художник не позволяет ни себе, ни читателю связать свои симпатии с отдельными лицами. Он никогда не показывает нам своих героев, как это делает нелюбимый им Тургенев, при бенгальском освещении или при вспышке магния, – он никогда не ищет для них выгодных положений, он ничего не скрывает, ни о чем не умалчивает. Беспокойного искателя правды Пьера Безухова он показывает нам под конец самодовольным семьянином и счастливым помещиком; трогательную в своей полудетской чуткости Наташу Ростову он с божественной безжалостностью превращает в ограниченную самку с неопрятными пеленками в руках. Но в то же время из-под этой как бы бесстрастной внимательности к частям вырастает могучий апофеоз целого, где все одухотворено внутренней необходимостью и гармонией. Может быть, правильно было бы сказать, что это творчество проникнуто эстетическим пантеизмом, для которого нет ни прекрасного ни отвратительного, ни большого ни малого, потому что для него велика и прекрасна лишь вся жизнь в целом, в вечном круговороте своих явлений. Это – земледельческая эстетика, неумолимо-консервативная по своей природе, и она роднит эпопею Толстого с Пятикнижием и с Илиадой[153].
Две позднейшие попытки Толстого найти для наиболее ему близких психологических образов и «красивых типов» места в рамках исторического прошлого – времени Петра Первого и декабристов – разбились о враждебность художника к чужеземным влияниям, которые резко окрашивают обе эти эпохи. Но и там, где Толстой подходит ближе к нашему времени, как в Анне Карениной (1873), он остается внутренно чуждым воцарившейся смуте и несгибаемо-упорным в своем художественном консерватизме, уменьшает широту своего захвата и из всей русской жизни выделяет только уцелевшие дворянские оазисы со старым родовым домом, портретами предков и роскошными липовыми аллеями, в тени которых из поколения в поколение повторяется, не меняя своих форм, круговорот рождения, любви и смерти.
И душевную жизнь своих героев Толстой рисует так же, как и быт их родины: спокойно, неторопливо, с незатемненным взором. Он никогда не обгоняет внутреннего хода чувств, мыслей, диалога. Он никуда не спешит, и он никогда не опаздывает. В его руках соединяются нити множества жизней, он никогда не теряется. Как неусыпный хозяин он всем частям своего огромного хозяйства ведет в голове безошибочный учет. Кажется, он только наблюдает, а работу выполняет сама природа. Он бросает в почву зерно и, как добрый земледелец, спокойно дает ему естественно выгнать стебель и заколоситься. Да ведь это – гениальный Каратаев с его молчаливым преклонением перед законами природы! Он никогда не прикоснется к бутону, чтобы насильно развернуть его лепестки: он дает им тихо распуститься под солнечным теплом. Ему чужда и глубоко враждебна та эстетика культуры больших городов, которая в самопожирающей жадности насилует и терзает природу, требуя от нее одних экстрактов и эссенций, и судорожно-сведенными пальцами ищет на палитре красок, которых нет в спектре солнечного луча. Слог Толстого таков же, как и весь его гений: спокойный, неторопливый, хозяйственно-бережливый, но не скупой, не аскетический, мускулистый, отчасти неуклюжий, стилистически шершавый, – такой простой и всегда несравненный по своим результатам. (Он в такой же мере отличается от лирического, кокетливого, блестящего и сознающего свою красоту слога Тургенева, как и от резкого, захлебывающегося и корявого языка Достоевского.)
В одном из своих романов – горожанин и разночинец – Достоевский, гений с непоправимо ущемленной душой, сладострастный поэт жестокости и сострадания, глубоко и метко противопоставляет себя, как художника новых «случайных русских семейств», графу Толстому, певцу законченных форм дворянского прошлого. «Если б я был русским романистом и имел талант, – говорит он чужими устами, – то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления… Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я – совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно… Поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уж безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой: но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато… Положение нашего романиста – продолжает он, не называя Толстого, но несомненно говоря о нем, – в таком случае, было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красот за собою».
Вместе с «красивым типом» не только исчезал непосредственный объект художественного творчества, но и рушились основы толстовского морального фатализма и его эстетического пантеизма: гибла та, святая каратаевщина толстовской души. Все, что раньше было само собой разумеющеюся частью несомненного целого, превратилось в осколок и потому в вопрос. Разумное превращается в бессмыслицу. И – как всегда – именно в тот момент, когда бытие потеряло свой старый смысл, Толстой спросил себя о смысле бытия вообще. Наступает (во второй половине 70-х годов) великий душевный кризис – не в жизни юноши, а в жизни человека 50 лет. Толстой возвращается к богу, принимает учение Христа, отвергает разделение труда, культуру, государство и становится проповедником земледельческого труда, опрощения и непротивления злу насилием.
Чем глубже был внутренний перелом – пятидесятилетний художник, по собственному признанию, долго носился с мыслью о самоубийстве, – тем более поразительным должно показаться, что в результате его Толстой вернулся в сущности к исходному пункту. Земледельческий труд – разве не на этой основе развертывается эпопея «Войны и Мира»? Опрощение, погружение в народную стихию, по крайней мере духовное – разве не в этом сила Кутузова? Непротивление злу насилием – разве не в фаталистической резиньяции весь Каратаев? Но если так, в чем же кризис Толстого? В том, что тайное, подпочвенное пробивает свою кору и переходит в сферу сознания. Так как природная духовность исчезла вместе с «натурой», в которой она воплощалась, то дух стремится к внутреннему самосознанию. Та автоматическая гармония, против которой восстал сам автоматизм жизни, должна быть отныне сохранена сознательной силой идеи. В консервативной борьбе (за свое нравственное и эстетическое самосохранение) художник призывает на помощь философа-моралиста.
II
Какой из этих двух Толстых, поэт или моралист, завоевал большую популярность в Европе, было бы не легко определить. Несомненно во всяком случае, что сквозь снисходительную усмешку буржуазной публики над гениальной наивностью яснополянского старца проглядывает чувство своеобразного нравственного удовлетворения: знаменитый поэт, миллионер, один из «нашей среды», более того: аристократ – по нравственным побуждениям носит косоворотку, ходит в лаптях, колет дрова. Тут как бы некоторое искупление грехов целого класса, целой культуры. Это не мешает, конечно, каждому буржуазному колпаку смотреть на Толстого сверху вниз и даже слегка сомневаться в его полной вменяемости. Так, небезызвестный Макс Нордау{122}, один из тех господ, которые философию старого честного Смайльса, приправленную цинизмом, переряжают в клоунский наряд воскресного фельетона, открыл – со своим настольным Ламброзо[154] в руке – во Льве Толстом все признаки вырождения. Для этих лавочников помешательство начинается там, где прекращается барыш.