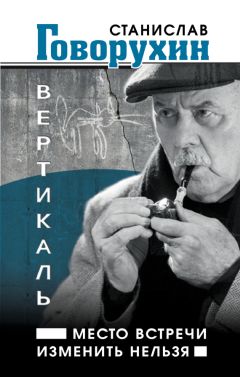Станислав Рассадин - Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском
Иван Иванович до сих пор ясно помнил, как она впустила его, пришедшего воскресным днем высматривать квартиру, в свой двор, поклонилась низко, но с тем достоинством, какое он давно приметил у сибирских раскольниц, согнула стан, ровно над жнивьем, распрямилась степенно — молода, всего двадцати с малым, хороша собою, нарядна по праздничному делу и опять-таки по староверскому зажиточному обычаю: сарафан пунцовый, кисейная кофта с пышными рукавами, толстые русые косы под алым повойником…
Но смерти супруга, бывшего много ее старше, смирного, работящего, способного удержать и приумножить копейку, она обходилась с хозяйством, как умела, и, надо признать, умела-таки. С садом и огородом управлялась сама, без работников, сама же варила, солила, коптила, мариновала для заводских господ, сама была голова дому и себе, а вот, пойми ее, связалась с ним, который ни достатка ей не принес, ни под венец не повел, полагая себя никудышным мужем, и ведь любит, даже ревнует по сей день, — его, старика.
Когда несколько лет назад он сдружился с юной дочкой заводоуправляющего Лизочкой Дейхман и сам шутил над своей привязанностью, именуя ее изнывающим платонизмом, Ирина его ревновала люто, не слушала увещеваний, смугло мрачнела, едва заходила речь о голубоокой Эльзе, как прозывали Лизочку сосланные в Завод поляки, и, кажется, бог знает, чего ей стоило, чтобы не ставить на стол самовар или тарелку швырком, а сохранять природное свое достоинство.
Что же касается до окаянны, по-ирининому, а по-настоящему сои-кайенны, петербургского гостинца от сестры Анны Ивановны, то и впрямь согрешил, старый лакомка, польстился на забытый вкус, нечего отпираться. И главное, всегда был умерен, еще и кичился умеренностью — тому ж Оболенскому похвалялся в письме, что целый день съедает разве одного цыпленка да пьет чай с грошовой базарной булкой. За русскую привычку пить квас и за ту как за развратную жестоко укорял кроткого Евгения Петровича.
Только не в сое дело. Пусть уж верится в это Ирине.
— У меня есть такая способность — не спать ночью, — молвил как-то Завалишин в обычном своем торжественно-таинственном духе, и Иван Иванович пе сдержался, прыснул. Хорошо еще, догадался вывернуться: так, дескать, сторонняя мысль набрела. Да, впрочем, тому все равно в голову бы не пришло, что его слова могут показаться смешны.
— У меня есть такая особенность… — начнет, бывало. Заглянет тебе в глаза со значением, словпо оценивает, стоит ли на тебя тратить столь важное сообщение, бережно вслушается в себя самого и, помолчан, добавит, к примеру: — Терпеть не могу комаров. Чертовски кусаются!
Ах, Дмитрий ты мой Иринархович, милый! С кем ты сейчас воюешь, кому не даешь житья в Россия, в которую, слыханное ли дело, тебя выслали из Сибири за то, что донимал критикой деяния генерал-губернатора Муравьева-Амурского? И ведомо ли тебе, что твой петровский затворник сейчас берет у тебя запоздалые уроки, пробуя самую беду свою — неумолимую бессонницу обратить в способность возвращать себе отжитое?..
Горбачевский прикрыл глаза, словно и боль от этою должна была притихнуть, и неожиданно впрямую столкнулся с взглядом черных бусинок, перекатывающихся в узких щелках.
Юноша, да нет, просто мальчонка. Шелковая изумрудная шубка; шапочка оторочена бобром и преображена голубым стеклярусом на манер театральной короны; сабля с серебряным темляком на боку; на груди золотая медаль на анненской ленте — Азия, играющая в Европу, простодушие, перенимающее ухватки чинного петербургского обычая. Застыв, как бурханчик, он сидит в коляске шестериком, на козлах и на запятках — трое будто окоченелых бурят в слепяще рыжих лисьих малахаях; сидит с той детской важностью, которая, как ни пыжься, не дастся никакому взрослому и в которую можно играть только ребенку, воображающему себя взрослым и важным.
Сидит недвижим, азиатский цареныш, побледнев от исступленного любопытства, и бусинки в дикарском ужасе и младенческом ликовании катаются по белокожим лицам пришлых людей.
И они смотрят на мальчика, улыбаясь, отходя душой.
По порядку, сморгонский студент, по порядку…
Было, как и бывает перед дальней дорогой. Жалостливо глядящие бабы со щеками, подпертыми правой ладошкой, — жест, по которому всегда признаешь русскую женщину, живет ли она под чухонским небом или загнана за самый Байкал. Мужеский пол, ритуально насупившийся сообразно моменту. И — как эмблема ссылочной стороны, как знак причудливой ее отлички — галльский орлиный нос с ноздрями, вырванными по-российски.
Старый Перейс, служивший некогда в армии Кондэ, потом сменявший Францию на Россию, арестованный на новой родине за дуэль, бежавший, убив часового, судимый, битый кнутом, сосланный, — все при матушке Екатерине! — эта читинская достопримечательность с неутраченной величавостью выступает из пригорюнившейся прощальной шеренги, выводит за руку, будто малого, широкобородого сына и говорит как в расиновской трагедии:
— Поклонись этим людям, дитя!
И слезы странно текут по его лицу, сворачивая ручейками в уродливые дыры рваного носа и скапливаясь в желобке над верхней губой.
Чита провожала их слезами: плакали люди, сочились и небеса.
Люди плакали, частью жалеючи несчастненьких, как жалели бы и распоследнего вора, попавшего под стражу, частью же так, как плачут, провожая только тех, от кого видели добро. А добро — было. Когда их, кого власть называла «государственные преступники», а общество почти сразу окрестило именем «декабристы», привезли в Читу, она была захирелой деревушкой заводского ведомства из малого числа домишек, глядевших косо и исподлобья, как глядели на прибывших и сами их обитатели. Три года облагообразили Читу так, словно декабристов доставили сюда не отбывать каторгу, а с единственной целью улучшить архитектуру и научить жителей опрятности, — дело сделали деньги, которые одна сторона, но стесняясь, запрашивала за бедный товар и немудреные услуги, другая, не торгуясь, платила. Да и уходя, оставляла внушительные приметы своего пребывания: новоотстроенные жилища коменданта и дам — Болконском, Трубецкой, Анненковой.
Не торговались и тут: Елисавета Петровна Нарышкина, свой дом купившая и перестроившая, отдала его за две сахарные головы.
Что ж до расплакавшегося неба, это, увы, не было ни поэтической фантазией, ни слезами скорби, которые спасителю вздумалось проливать над их незадачливой судьбой. Начало августа 1830 года выдалось невиданно дождливым, даже речонка Чита вздулась в подражание рекам более именитым, и все шестьсот с лишком верст до Петровского Завода, все сорок шесть дней пешего путешествия напоминали путь армии, принужденной то и дело форсировать водные препятствия.
Это, впрочем, радовало сердце генерала Лепарского, который, красуясь на белом, как нарочно, коне, у каждого ручейка приказывал наводить но всем инженерным правилам переправу; и, когда трое, Якушкин, Завалншин и Вольф, наскучив ждать, просто-напросто отправились вброд, oн подскакал к ним и закричал, как человек, которому нанесли личную обиду:
— Господа! Куда вы? Что за безрассудная отвага? Если вы утонете, то вам ничего, а знаете ли, как придется отвечать мне?
— Le vieux coursier a scnti l'aiguillon,[1] — смеясь, заметил Ивану Ивановичу Оболенский; он подразумевал то, о чем и сам генерал не уставал напоминать:
— Когда я, миновав все затруднения, привел в Сибирь польских конфедератов, то государыня…
Как былой кутила с неизлечимой подагрой, старчески прослезясь, воскрешает в слабеющей памяти молодечества юности, так добродетельнейший генерал-майор Станислав Романович Леиарский нес в сердце дорогое воспоминание. В девяностых годах ему, поляку по рождению и строгому католику, было доверено сопровождать пленных соратников Костюшки и Юзефа Понятовского, ссылаемых за возмущение против российской царицы, и он с наивностью добросовестного служаки рассказывал, не очень понимая, чем и перед кем хвастает, к каким остроумным уловкам и к каким успокоительным посулам приходилось ему прибегать, пока не завлек земляков в безопасную глубь империи.
Стародавний его подвиг и подсказал памятливому Николаю назначить Лопарского, безупречного командира Северского конноегерского полка, комендантом Нерчинских рудников.
Теперь старый конь в самом деле почуял шпору… и взыграл.
Авангард. Арьергард. По бокам вдоль дороги — буряты, каждый из которых, кажется, чуть шевельнись, выхватит из колчана стрелу да и пустит тебе между лопаток: им было внушено, будто стерегут колдунов и кудесников, и столько наговорено страшного, что они, как потом признавались сами, ожидали увидеть уж никак не людей, а драконов с хвостами и крыльями, которые, того и гляди, упорхнут в поднебесье. Быть может, даже разочаровались, когда ужасного этого чуда не случилось.