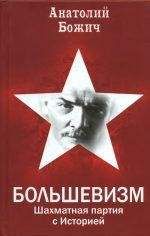Сергей Булгаков - Русская трагедия (о «Бесах» Достоевского)
«Не шутил я с вами тогда, – говорит Шатову Ставрогин, – убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас». «Если бы я веровал, – прибавляет он позже, – то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий». Ставрогин головой отлично знает, где спасение, но она отделена у него от сердца, и от этого знания не родится духовного плода. Так бесы узнавали мимоходящего Христа и кричали через бесноватых: «Ты Христос, сын Бога Живого», но Он запрещал им эти бесплодные признания. В душе Шатова Ставрогин мог лишь вызвать бурю, поразив его воображение и помешав ему дорасти, созреть до своей идеи. Делом Ставрогина и здесь оказалась духовная провокация.
Надломленный своим прошлым и отравленный чарами Ставрогина, Шатов, однако, принадлежит к уже исцеляющимся, он судорожно припал к «ногам Иисусовым», и его коснулась исцеляющая рука: он выпрямляется и вырастает на глазах, – тому свидетельством раздирающая душу повесть о возвращении жены, рождение ребенка и смерть Шатова, – эта потрясающая Ночь{17}, Светозарная молния разрезает тьму, в душе Шатова звенит гимн любви, радости, всепрощения, – он исцелен. Но в эту минуту злобная и мстительная рука направляет на него пистолет простоватого Эркеля… Не суждено было Шатову поведать людям о своем исцелении.
Около Ставрогина, как кругом великого светила малое, обращается и Петр Верховенский. Его можно назвать провокатором политическим. При этом он отнюдь не есть предатель из-за корысти, не трус, он даже энтузиаст, по компетентному определению Ставрогина, он способен на жертвы и все время в сущности играет с опасностью. И, однако, в то же время он циник, который откровенно презирает и водит за нос свои «пятерки», рассматривая их как пушечное мясо. Потому он так хладнокровно перешагивает через убийства и при этом вовсе не ощущает каких-нибудь «проблем» или сомнений, укоров совести. Как будто у него кем-то выедено нравственное нутро, а в мозгу засела одна лишь фанатическая и фантастическая идейка. Под маской демократа, эгалитариста и социалиста он совершенно откровенно третирует всех, рассматривая людей как шашки в шахматном ходе. Над всем царит у него одна холодная, насмешливая презрительная воля. Но при этом и трезвый, расчетливый в злодействе Верховенский в действительности есть маниак и одержимый. И он ощущает себя сверхчеловеком и человекобогом отнюдь не менее Кириллова, и это самочувствие создает из него органического противника демократической идеи, которая годится ему лишь для официального политического ханжества. Он готов разрешить для человеческого стада демократию, его осчастливить, он позволяет ему устраиваться в своем муравейнике, при условии повиновения его диктатуре. Образ Великого Инквизитора просвечивает в Верховенском. Это впечатление еще восполняется от социальных построений Шигалева, уже вполне определенно содержащих основную мелодию «Легенды о великом инквизиторе». Вот как излагает идеи Шигалева хромой. «Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса – разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». Шигалевские же речи в самозабвении повторяет и сам Верховенский в сцене со Ставрогиным. Именно это человекобожеское самосознание и ставит Верховенского «по ту сторону добра и зла», он считает, что для него все позволено, всякие, хотя бы самые рискованные и необычные средства, а это-то самочувствие и делает из него провокатора и в политическом смысле. Провокатор-предатель, «сотрудник», за деньги выдающий тайны партии, есть вырождение этого типа, его оборотная сторона, или его осложнение и загрязнение, впрочем, вероятно, и неизбежное. Но мотивами одной низости и мелкой корысти его никоим образом не объяснить, и в его основе должно лежать сверхчеловеческое самобожеское самочувствие Верховенского, для которого нет преград на пути к облагодетельствованию человеческого стада, насмешливо ведомого к «земному раю».
Верховенский остается совершенно последователен и искренен и в своей лживости, и в своем авантюризме, и в своей отваге, которой нельзя же отрицать, – он служит своей идее. И если он ужасен и даже омерзителен, то потому, что ужасна его идея. Несмотря на внешность шута, он всегда серьезен и сосредоточен до последней степени; он презирает людей, покрыт кровью и весь в преступлениях, но остается предан своей идее до самоотвержения. Он способен ради нее и к личному самоустранению, да он и верит-то собственно не в себя, не в свою силу, но в Ставрогина, в «Ивана Царевича», которому целует в самозабвенни руку; мечту о нем он взлелеял в своей душе и в нее уверовал: человекобог, преклоняющий колени перед сверхчеловекобогом! «Ставрогин, вы – красавец! – вскричал Петр Степанович почти в упоении, – знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу… Вы мой идол… Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я червяк… Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки».
«Нет на земле иного как вы! Я вас с заграницы выдумал: выдумал, на вас же глядя».
Ставрогин «значит» для Верховенского не меньше, если не больше, чем для Шатова и Кириллова, он есть его выявленное я, его проекция во вне, живой «самозванец». Но неужели же все так слепы, неужели и трезвый, расчетливый Верховенский не видит, что Ставрогин совсем не то, что ему нужно, не видит, что Ставрогин пустое место, отдушина для инспираций зла, медиум? Но потому-то этого не видит и Верховенский, что в основе он вовсе не трезв, он одержим, как и все остальные, для него Ставрогин тоже есть только зеркало, двойник. Тот самозванец, которого хочет найти в Ставрогине Верховенский, конечно, есть он сам, а еще более тот, кто им владеет, – настоящий и подлинный самозванец.
Таким образом, провокатор сам оказывается жертвой провокации, одержащая его сила зла не встречает в нем сопротивления и, превращая его в свою личину или «скорлупу», делает его своим орудием. И постольку то движение, которое порождается и руководится Верховенскими, есть порождение духовной провокации, в которой лишь одним из частных случаев является провокация политическая:
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Этими строками Пушкина, взятыми эпиграфом к «Бесам», определяется и общественная философия романа. Революция в нем рассматривается как религиозная драма, борьба веры с неверием, столкновение двух стихий в русской душе. Прав или неправ Достоевский в своем понимании религиозной природы русской революции? Очевидно, во всяком случае, что это не есть вопрос политического учения или социальной доктрины, но прежде всего вопрос религиозного миропонимания. Существенна здесь совсем не политическая доктрина самого Достоевского (которая к тому же отсутствует в романе), но религиозный диагноз той интеллигенции, которой принадлежит духовно руководящая роль в русской революции. Поэтому вдумчивое отношение к проблеме Достоевского требует прежде всего совершенно освободить ее от политики и вообще от связи с каким-либо политическим мировоззрением (ведь не забудем, что одержимыми представлены не только «социал-революционер» Верховенский, но и «черносотенец» Шатов). Вопрос о религиозном смысле революции поставлен в «Бесах» так: является ли в ней духовно определяющим человекобожие, которое силою вещей становится демоническим, переходит в одержимость? Ставрогин и Верховенский, орудие и жертва духовной провокации, есть ли для нее существенный симптом или только случайное явление, накипь? Вопрос этот, который за четверть века до революции с таким изумительным ясновидением поставил Достоевский, можно на язык наших исторических былей перевести так: представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь? Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась неоцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем Достоевским уже наперед была дана, так сказать, художественная теория Азефа и азефовщины, поставлена ее проблема. Конечно, возможно не соглашаться с Достоевским в оценке симптоматического значения нащупанных им явлений, можно видеть в них не духовное существо русской революции, но ее болезнь. Пусть так, пусть Достоевский заблуждается в своем историческом суждении, пусть этот роман будет не о русской революции, но о болезни русской души. Но и тогда остается вне всякого спора и его глубокая жизненная правда, и величайшая важность того художественного анализа, которому подвергнута здесь проблема «одержимости», утраты духовного центра. И ныне, когда художник своими образами снова ставит перед русским обществом тот же вопрос, его стараются заглушить надругательством над Достоевским, топаньем, кашлем, протестами. Нет, роман «Бесы» нужен современной России не меньше, чем раньше, должна же она углубиться в себя и совершить μετανοεια{18}, переворот в мыслях и чувствах, то «покаяние», о котором говорится в самом начале евангельской проповеди. Достоевский приносил в этом романе покаяние за свою родину, по образу боговидца Моисея, который прекословил Богу, споря за народ свой. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, (Господи!) народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога; прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты меня вписал» (Исход, 32,31–32).