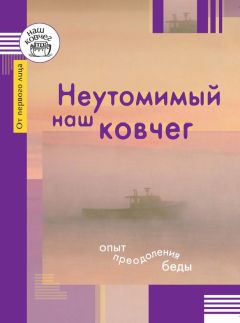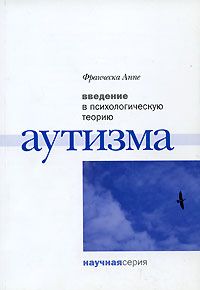Светлана Бейлезон - Неутомимый наш ковчег. Опыт преодоления беды
В электричку, потом в метро. С издающим странные звуки, нелепым, неуклюжим ребёнком. Всю нелепость своей «гиперобороны» я поняла позже. Но тогда главное было — доехать. Довезти «ценный груз», позаниматься — и обратно. Дома расслабишься, а сейчас — держись.
Спустя полгода после начала занятий, в конце февраля, педагог, смущаясь, вынесла мне работу сына. «К 8 марта все дети рисовали портреты мам», — пояснила она. На меня с рисунка смотрела злобная мегера. Губы сжаты в две тонкие, зло искривлённые линии. Брови нахмурены, из–под бровей двумя точками напряжённо смотрят маленькие глазки. Но правильный цвет волос и глаз, чёткий овал лица… Педагогу было чем гордиться. А мне?
- Женя, неужели я такая злая?!
- Ты не такая не злая, — стереотипно ответил он.
Задумавшись, я потащила его домой. Ведь действительно, я совсем перестала улыбаться. Мы никого не приглашали к себе и сами не ходили в гости. Вместе не гуляли. А когда гуляли, то уходили подальше от людей. Я практически не запоминала окружающих людей. Быстрее, быстрее домой, в свой окопчик.
Странно, но ни меня, ни сына никогда не обижали посторонние. А вот в кругу самых близких людей — родителей и сестёр — я совсем не могла расслабиться. И на этом фоне — ненавязчивая помощь родителей мужа. Пусть мне не всегда нравилась «модель воспитания» моей свекрови, сейчас я ей очень благодарна: за то, что не лезла с нравоучениями, с жалостью, советами, не пилила, что молча оставалась с детьми, просто была рядом с нами. «Мы спина к спине у мачты», а она рядышком — сабли чистила, патроны подавала.
Рисунок сына заставил меня задуматься и остановиться. В такой семье ребёнка не вытащишь из скорлупы. Неужели я окружила себя броней и защищаюсь? От кого? С кем я воюю?
Это время запомнилось внутренним вызовом всему миру: пусть у нас больной ребёнок, но мы — обычная семья. Стали чаще покупать что-то, потому что это было у всех. Деление на «мы» и «они» оставалось. Осталось и сейчас. Но сейчас в категорию «они» входят чиновники, а тогда — весь мир.
В Центре лечебной педагогики учили не столько сына, сколько меня. Учили просто любить его, учили тому же, чему «учил» меня он сам. Но педагоги были более компетентны, они заставили меня остановиться: «Я запрещаю Вам делать с ним домашнее задание. Не надо ничем с ним заниматься. Отдохните». А потом мне показывали его рисунки, рассказывали, что он, оказывается, это умеет, и ещё это, и то. Росла уверенность в его способностях. Росла надежда. Росло доверие к сыну.
Мы пошли в школу. Жизнь стала входить в обычное русло. Правда, школьная учительница сразу не понравилась: она глядела на сына с жалостью, замешанной на презрении. Может, это мне только казалось? Но это высокомерие, это нежелание с ним заниматься… «Ваш ребёнок быстро устаёт. Три урока по 40 минут с ним — очень много. Будем заниматься два урока по 30 минут» (а в Центре он занимался по три часа и не хотел уходить оттуда!). Других педагогов не было. Приходилось терпеть. Но недовольство нарастало. «У вас очень тяжёлый ребёнок». — «Вы не видели действительно тяжёлых детей!»
Слава Богу, подвернулся случай, и сейчас у сына другая школа и другая учительница.
Иногда думалось: может, зря бегаю, может, само отрастёт, зарастёт и исправится. Но, словно заведённая юла, я уже не могла остановиться.
Все постепенно успокаивалось. Появилось время. И осознание того, что мой сын — это не вся моя жизнь. Я знакомилась с другими такими же семьями. И случайно познакомилась с Мишкой. На год старше Жени, он во всех своих проявлениях ужасно походил на моего сына в шестилетнем–семилетнем возрасте, до начала занятий. Но с тех пор прошло четыре года, и Женя уже изменился. А Мишка был на том, давнем уровне. «Хорошо, что езжу. Все правильно!» — подумалось мне.
Когда ребёнка видишь каждый день, сложно отследить те маленькие подвижки, которые происходят. Это заметно, когда вдруг вспоминаются какие–то моменты — как столбы вдоль дороги, отмечающие пройденный путь. Вот он уже заявляет о своём желании: «Я хочу». Но его почти всегда можно уговорить, уломать: «Ты ведь не очень хочешь!» — «Да, не очень хочу», — соглашается он. Вот уже бегло читает. Вот уже звучат фразы: «Я это не хочу!» Но опять–таки, ещё можно уговорить. Нет, уже нельзя: «Я это хочу!» И настоит на своём!
Стереотипен до предела. Все установленные им самим правила общежития должны соблюдаться абсолютно чётко. Шаг вправо, шаг влево — даже думать не смей. Уже выражает симпатию: «Маша такая красивая!» — «Она тебе нравится?» — «Да». Уже можно оставить одного и уйти, предупредив: «Не бросай квартиру. Вот ключи». И вернувшись, обнаружить, что квартира заперта, а сын ушёл к бабушке. Уже сам нальёт себе чай. Уже приходит и говорит: «Я сделал тебе чай». — «Спасибо, сынок!» — «Ага, спасибо», — буркнет в ответ. Но речь!!! Где тот словесный поток, что был десять лет назад? Комкая звуки и слова, он говорит строго зазубренные фразы, которые неизменно повторяются в каждой повторяющейся ситуации. Если ставишь перед выбором, задумывается, закрывается: «Я же знаю». Значит, ответ не был заранее проработан, озвучен, зазубрен. Поэтому чуть не упала, когда он, видя, что мы собираемся в магазин, вдруг сам спросил:
- Чипсы купите?
- Какие? — усложнил папа.
- С беконом, — выкрутился ребёнок.
- А если с беконом не будет? — усложнила я.
- Тогда с укропом.
- Хорошо, — хором, переглянувшись, ответили мы.
«Лед тронулся, господа присяжные заседатели», — говаривал знаменитый комбинатор. До ледохода ещё далеко, но весной уже повеяло.
…Недавно я прочитала, что человеческий мозг постоянно развивается, до самой смерти. Значит ещё не вечер. Беги, лошадка, беги…
История четвёртая
Лева Вирин
Моя любимая подруга Ленка невысокая и круглая, очень весёлая, подвижная, громкая, и жизнерадостная.. Левка раньше был маленький, а теперь перерос маму, стал крупным, основательным, смет серьёзно относящимся, к себе молодым человеком. Ленка говорит: от осинки не родятся апельсинки. Оба они с Левой способные, хорошие люди и верные друзья, оба любят глотать толстые книги, лёжа на диване, любят покушать и всячески склонны, не заниматься, тем, чего им делать не хочется.
Мама Лена: Человек, который радуется жизни.
Левушка в нашей семье третий ребёнок. Поэтому, когда он родился в мае 1983 года, я очень быстро поняла, что с ним не все в порядке. В три недели ему поставили диагноз: перинатальная энцефалопатия[2]. Очень хорошо помню своё тупое оцепенение, неверие: вот утром проснусь, и все это рассеется, как дурной сон…
И начались наши странствия по больницам…
Маленьким Левушка был очень тихим, почти не плакал, ни на кого не реагировал. Я даже не знала, отличает ли он меня от других людей. Однажды, правда, когда мне пришлось на ночь его оставить с другим человеком, он всю ночь не спал, кричал, и я поняла: значит, все–таки отличает.
Леве было месяцев восемь, когда мне впервые сказали: ДЦП[3].Поражение было тяжёлым: паралич всех конечностей, тетраплегия, а ещё судорожная готовность, гипертензионный синдром[4] и гидроцефальный синдром…[5] Ощущение было такое, будто на меня упал кирпичный дом этажей в двенадцать.
И как рефрен, все первые годы: «Сдайте ребёнка, вы ведь ещё молодая, у вас уже есть двое здоровых, зачем мучиться всю жизнь…»
Но какое счастье, что мы так рано начали лечиться! И что у организма оказались просто гигантские способности к восстановлению.
В год у нас уже была победа — он сумел дотянуться сушкой до рта. Мы нашли очень хорошую массажистку, и где–то в 1 год 3 месяца она Левку поставила. Сел он тогда же. Но ещё почти год не мог ходить сам, только с поддержкой. Около двух — наконец пошёл. Но не общался с нами никак — казалось, вообще на речь не реагировал. Зато на улице каждую лужу аккуратно обходил по краю!
Какие только профессора его не смотрели!
Когда Леве было 2 года, знаменитый профессор влепила ему «имбецильность»[6].
Говорили: бесполезно его чему–либо учить, нужно адаптировать. Максимум, к чему он, может быть, приспособится — простейшие навыки самообслуживания. Но как же было верить в это, когда он смотрел на меня умными, живыми глазами и радовался жизни. Его даже на самых ранних фотографиях легко узнать по улыбке.
Я впервые услышала о Левке нечто хорошее, когда ему было 4 года и мы с ним пошли к Светлане Иосифовне Маевской, прекрасному логопеду. Она посмотрела его и сказала: «Нет, он не олигофрен. У него для этого слишком скверный характер».