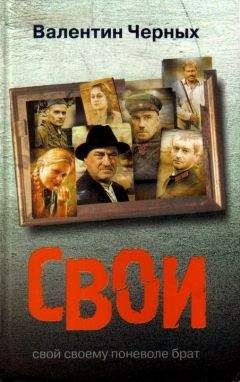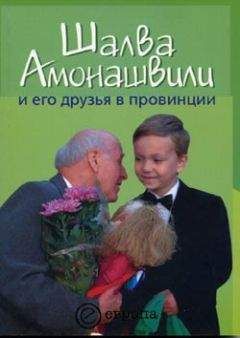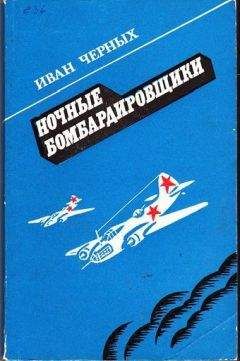Борис Черных - Старые колодцы
Как не вспомнить и подвиг детей в войну?! Восьмого марта 1941-го Лешке Семенову исполнилось четырнадцать лет, но он уже два года работал прицепщиком, грянула война, прошел трехмесячные курсы, сел на трактор «Т-22», гусеничный, ребра колотил, потом перешел на «НАТИ». Войну отбухал с ровесниками Мишей Михайловым, Василием Ивановым, Ильей Зарщиковым и Михаилом Платоновым. Работали впроголодь сутками, ночевали в поле. И девки, совсем юные, рядом были: Катя Михайлова, Маруся Смоловская, Зоя Травникова. Зоя в пятнадцать лет села на трактор, в девятнадцать – война шла к концу – осколком металла в кузне поранило ей глаз, сорока процентов зрения лишилась девка. Обратилась она к тулунской врачихе, а та: «Таких инвалидов не бывает у нас, иди работай», – и снова работала Зоя Даниловна заправщиком, учетчиком. Замуж не вышла.
Брат Зоин – Костя до фронта успел тоже покайлить.
Алексей Иванович Семенов, в просторечии Леха Моргач, рассказал, как работали на двух хозяев: зимой на МТС, а летом – на колхоз, но за сохранность трактора отвечали головой перед МТС. А то закинут парней в чужие деревни, на прорыв, родину забудешь – Афанасьево. В 1976 году бывший директор МТС Константин Степанович Тетюриков приехал, пенсионер уже, но депутат РСФСР, и говорит Алексею Ивановичу: «Состарился ты, Алексей». – «Состаришьсся», – спокойно отвечал ему Семенов, за плечами которого тридцать семь лет трудового стажа из пятидесяти прожитых на белом свете лет.
Мальчишкой начал работать Василий Макеевич Терлецких, семнадцати лет, в 43-м, ушел на фронт, добрался до Берлина, был тяжко ранен, отлежал в госпитале четыре месяца, и двадцати лет ему не было, как стал он ветераном Отечественной.
Признаться, сам я с Терлецких не говорил, поручив это дело Наде Фоминых, афанасьевской библиотекарше; позже, читая ее тетрадку, обнаружил удивительные строки: Василий Макеевич, не сразу сосредоточившись, всякое-разное говорил Наде, а она, молодчина, писала. Так нашел я подтверждение шахматовской жестокости. Это как Непомнящих вместе с Шестопаловым в поле дежурили (Михаил Петрович Непомнящих про Шестопалова не говорил мне, забыл, видно), одну ветку вырвали да в котелок, на костер. «Там было пятнадцать картофелин, – пишет Надя. – Шахматов с разбегу пнул котелок и уехал, приехала милиция, и мужиков забрали. Но самое удивительное в желтой этой тетрадке – как Василий Макеевич, нынче многоопытный комбайнер, вдруг заговорил об играх предвоенных. Понимай так: от игр мальчики эти пошли на трактора и встали к орудиям войны.
В чижика и в бабки играли, на качелях качались. «Самая захватывающая игра, – пишет Надя Фоминых следом за Терлецких, – команда на команду, в лапту. Выберем матки, а матки наберут команды, вот и схватимся. И хочется ушить тряпичным мячом врага...»
Тряпичным – резиновых не было.
Нынче прекрасный пастух в Никитаеве Андрей Егорович Пиляев, человек с обостренным чувством собственного достоинства, пятнадцати лет принял в 1941-м мужицкую ношу, не уронил ее до сих пор.
Краснодубравский Егор Семенович Аксютец, считающий нынешнюю жизнь сказочно счастливой, встретил пацаном войну, с тех пор роздыху не знал, но диво дивное – оба они с женой Марией Ивановной, раскрасневшись, рассказывали, как дружно встретил беду народ и как на редких гулянках Марья Ивановна девчонкой подыгрывала вдовам и солдаткам на балалайке, дар такой у Марии Аксютец имелся – балалаечный...
Всю войну ходил по никитаевским дворам, побираясь, Юра Пимаков. Теперь Пимаков, наверное, забыл ту пору... Нет, едва ли забыл, невозможно это забыть. Сам я расспросить не решился мужика, старые раны бередить боюсь; доверюсь рассказу соседей. Отец Юры помер, когда тот малым бегал под стол, жили они, полусироты, с матерью. Мать возила муку к пекарне, один раз не удержалась, насыпала в карманы крупчатки – голодно невтерпеж было, она и думала сухих лепешек прямо на чугунной плите напечь. Ее застукали и сразу посадили. Юра с братиком и двумя сестренками остались на воле. Мать увезли в Иркутскую тюрьму, а Юра все военные годы ходил по Никитаеву, постучится (деликатный был мальчик), войдет и сядет на пороге:
– Тетя Дуня, дай картошечку, – и одна штанина у Юры целая, а вторая порвана.
Сердобольные женщины поделят свою пайку хлеба, молока в банку нальют – так не дни или месяцы прошли, а годы, долгих пять лет. Сталинградская баталия выиграна, подошли наши к Варшаве, взяли Берлин, а Юра с сестрами и братцем все ждал мамку. В доме у них все описали и забрали, хорошо, русскую печь нельзя было описать и полати. Детей Пимаковых отказались взять в детдом – не сироты, дескать, мать, мол, живая у них есть, а то, что отсутствует, – так это временно. Но в детдом они и не хотели идти. С лета готовились мальчонки к зиме – стаскивали хворост на двор, огород садили, пропалывали и окучивали и с помощью деревни выжили, все выросли. И приехал я, чужой летописец, издали смотрел на Юрия Пимакова, и боль саднила меня, не решился я подойти к нему и не подошел.
Зачтется ли детям безымянный их подвиг в Великую Многострадальную?..
В 1943 году летний пожар добавил горя афанасьевцам – полдеревни дымом ушло в небо, но и тут не сдались женщины, сбившись в стаю и грея друг друга.
Молох войны уничтожил многих, немногие вернулись. Погибшие остались в памяти односельчан и все еще задают разные вопросы оттуда, из небытия.
Вот и меня тревожит один вопрос: что же это за удивительный народ – русские? В погибель гнула их судьбина в 30-м году и все годы рокового десятилетия, но стоило грому грянуть, мужик наш перекрестил ребятишек, жене велел: «живи, пока живется», ушел и ожил, задвигался у пропасти на краю; и мы увидели вдруг лица, утратившие покорность, а исполненные силы и величия.
Нет ли в самом деле здесь загадки?
Дивизии генерала Власова состояли большей частью из добровольцев – факт безотрадный: русская армия воевала против своих. И от наших деревень два делегата затесались в РОА... Честолюбцев, неудачников, наконец, просто враждебных новому строю людей, да еще и невинно пострадавших, если не простить, то понять можно – они искали прибежище для реализации несбывшихся надежд.
Но почему многократно обиженные и поставленные в унизительное положение полукрепостных тулунские мужики не бросили оружие или – как власовцы – не повернули его против командиров? – тяжеленный вопрос. Ссылаться мы не смеем: фашист страшнее, мол, отечественных опричников. Не следует и лгать: наш мужик, Никита Моргунок и Вася Теркин, был-де уже социалистом до мозга костей. Действительность каждодневно отучала, а не обучала крестьян от социалистических верований. Они и православную веру успели частью растерять...
Так что же случилось вдруг в 1941-м? Может быть, мощным толчком пробудился инстинкт национального самосознания... Или мужик, идя на войну, предвосхищал послевоенные перемены, послевоенное потепление... Все эти соображения и доводы хороши для братьев-интеллигентов, которых хлебом не корми, а дай подискутировать об особой избранности русского народа, о дальновидном терпеливом характере русского... Тут есть, конечно, и верные зерна – терпеть мы обучены. Женщины, например, в тулунских деревнях – они ведь не только мужиков дожидались, беду перемогая. Силы теряя, они воистину терпели лихолетье.
Но мужики... Скажу, что думаю о моих героях: война – не вообще война, а война на передовой – раскрепостила мужика. Под пулями врага мужики вдруг вспомнили, что тут-то как раз и не надо бояться – здесь пуля оборвет жизнь, но надсмотрщика тебе здесь не положено. Рядового и командира уравняла в окопе близкая гибель, и сразу сложилось и окрепло предсмертное это братство... И никакие особисты не властны были уничтожить на фронте мужицкую спайку.
В 1956 году прочитал я в «Литературной Москве» стихи, чьи – не помню: «в год затемнения и маскировки мы увидали ближних без личин...» – так и на войне сердца освободились от подозрений.
На войне мужик в гибельных обстоятельствах обрел себя, вспомнил себя. У него и времени оказалось тут больше – в дождь он подчас сидел в блиндаже, а не на гумне хлеб молотил, в снегопад грелся у буржуйки или у плеча товарища.
Михаил Петрович Непомнящих сказал:
– Кабы знал, что после фронта в тюрьму угожу, я б, Иваныч, дальше воевал и бил бы танки энти...
– Да с кем бы ты воевал дальше, Михаил Петрович? – подивился я, не сразу поняв подспудную горечь его слов.
– С кем? С мировой буржуазией! Тама меня человеком считали, командир за ручку здоровкался. Ты, говорит, освободитель Расеи, Михаил, держи голову прямо...
Сибиряку еще один невиданный прибыток явился на войне. Европейские тихие морозы, да ежели еще с солнцестоянием, оказались милы ему – не то что немцу иль избалованному теплом славянину-южанину.
Да, работать на войне было рискованно, но ему, крестьянину, привыкшему к обморочным заботам с малых лет, ратная служба пришлась по плечу. Потому, чем дольше длилась война, тем увереннее втягивался в нее и осваивался с ней и в ней мужик, по точному слову живого классика – утверждался[74]. Немец же, напротив, не добившись скорой победы, дальше хотел воевать с комфортом и с выходными днями, немец мечтал о белых простынях, о которых наши мужики и не слыхивали. Немец, не только мещанин, но и рабочий, видел сны в окопе: как он ест с фарфоровой тарелки пышную котлету; а тулунский мужик, привыкший из горячего котла хлебать в поле и из общей семейной чашки, а в семье народу было не меньше, чем солдат в отделении, – он и тут хлебал из медного котелка с аппетитом, да еще и надбавки просил, лишь бы баланда была погорячей да погуще. И спал он привычно на жестком, без пуховой подушки...