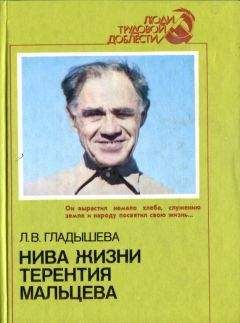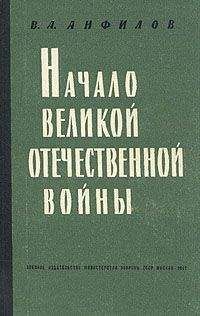Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса
B. C. Я как понял, в этой поездке вы перед собой в первую очередь ставили решение творческих задач, в вас преобладало чувство творческого искания? Или всё-таки была и та тяга, ради которой большинство людей едут именно на эту святую землю?
В. К. Себя расчленить невозможно. Конечно, для тех насельников, которые живут и молятся на Афоне, все мы, приезжающие туда, туристы. Но я себя никому не навязывал, ни к кому не приставал, а ходил в сторонке и впитывал в душу неповторимые ощущения. Тем более, меня возил по дорогам Афона на какой-то раздолбанной машине без тормозов отец Давид, русский монах. Он водил это подобие машины как заядлый автогонщик. К тому же на каждом повороте петляющей дороги стоят кресты. Так мой сопровождающий успевал на полной скорости широко, с чувством на них перекреститься, придерживая руль только левой рукой. А крестами этими отмечены особые в духовном плане места. Тут либо кто-то из святых являлся монахам, либо ещё что-то очень важное происходило.
B. C. Как так получилось, что вы смогли отправиться в путешествие? Я наслышан, что для посещения этих мест нужно особое разрешение местных афонских духовных властей.
В. К. Сейчас это элементарно. Я ездил с семьёй. Мы жили в великолепном отеле, расположенном недалеко. И вот в этом отеле, как дополнительная услуга, предлагалась такая поездка. Единственное ограничение для посещения – не более шести человек в день.
B. C. Всё-таки соблюдают режим, чтобы не мешать монахам жить своей жизнью, совершать то, ради чего они и приехали на святую землю Афона.
В. К. Иначе бы туристы всё истоптали.
B. C. А в нашем русском монастыре святого Пантелеймона довелось побывать?
В. К. Да, я там был. В разработанном для нас маршруте он оказался последним для посещения и, грешным делом, меньше всех мне понравился. Там сделан такой современный евроремонт, так всё сияет, всё отполировано, что я даже растерялся. Потом меня расстроил один монах. Мы побывали на службе в храме (единственный храм, куда нельзя было заходить в рубашке с короткими рукавами), выходим (со мной в группе были такие мощные бритые ребята – в наколках и во всём блеске всевозможных подобных «атрибутов» для их идентификации – видимо, приехали замаливать грехи, что натворили в России), и тут этот монах встречает нас и ведёт в иконную лавку, расхваливает имеющиеся там иконы, которые будто бы все до одной написаны искусными иконописцами. И цены за эти иконы называл совершенно безумные. А я смотрю – все они бумажные, наклеены. Я ему говорю: «Отец, ты же обманываешь». А он в ответ: «Всё во благо Господа, всё во благо. Пусть покупают. Главное вера». У меня это лукавство вызвало неприятное чувство.
B. C. Пришлось на Афоне что-то написать, зарисовать?
В. К. Я сделал много небольших походных рисунков, набросков. Кстати, я не знал, что на Афоне хранятся мощи Иоанна Златоуста, его голова с нетленным ухом. Нам её вынесли, и мы приложились. В специальном ларце открыли верхнюю крышку. Внутри череп благоуханный. Потом открыли отдельно с правой стороны и показали нам нетленное правое ухо, в которое великому святому ангел нашёптывал. Настолько это всё потрясает! В Андреевском скиту я приложился к черепу Андрея Первозванного. Когда-то эта святыня была русской. Для меня, я не знаю почему, но всё, что делалось людьми на протяжении многих столетий на этой земле (а Афон знал и захваты, и разрушения, и восстановления из пепла) уже само по себе вдохновляет. Мне было интересно разглядывать то, что было сделано руками человека, но и то, что было первично до этой работы. Вот камень, и мне интересно размышлять о том, как он реагирует на то, что его точит вода. Или циклопическое нагромождение скал. Как ни крути, но всё, что делает человек, пусть хоть и века это простояло, всё равно призрачно относительно того, на чём творение его рук стоит. Поэтому я много рисовал камней, пытаясь прочувствовать, как две горы существуют одна на фоне другой, как между ними струится туман, который то что-то покрывает, скрывает от взгляда, то внезапно что-то выделяет, обнаруживает на одном из склонов. Подобное можно проследить в любом месте, но то, что это происходит на Афоне, всё переживается намного обострённее.
B. C. Там невольно должно возникать чувство благоговения – ведь мы столько знаем об этом месте, столько читали о нём, в глубине души всё узнанное переживали. Композиция большой картины, которую мы только что с вами смотрели и которую вы сейчас заканчиваете, сложилась у вас в уме именно там?
В. К. У меня сейчас составляется целый цикл под названием «Афон». Первую работу из него я написал около двадцати лет назад. (Она сейчас находится в частном собрании, но репродукцию её я помещаю во все свои художественные альбомы и книги, а мой друг композитор Буцко до сих пор сетует – как я мог расстаться с этой работой, потому что для него она имеет какое-то важное, сущностное значение. Я внял его увещеваниям, попытался написать варианты той картины, но у меня ничего не получилось). И когда я вновь приехал на Афон, то памятуя о том, что надо что-то конкретно сделать, чтобы утешить своего друга, любимого мною композитора, я и начал писать эту работу.
B. C. Я давно понял, что длительность пребывания где-то не всегда имеет важное значение для художника. Новизна впечатлений в первый момент соприкосновения с неведомым или, напротив, долгожданным, но является ли она самым главным и волнующим, что даёт пищу для творчества?
В. К. Точно. Но чувство отчуждённости, с одной стороны, и сопричастность к чему-то вечному (ведь понимаешь, что до тебя по этой земле ходили тысячи и тысячи людей, да ещё каких), с другой, наполняют душу совершенно особым состоянием. Я не пытаюсь на этом полотне отразить те места, которые очевидны для всех, узнаваемы всеми (ведь многие фотографируют, пишут афонские храмы), но мне хочется передать особую энергию этой земли. Ведь здесь много чего было построено, а затем разрушено. Но вот эти вечные камни остались, они лежат здесь с незапамятных времён и будут лежать до скончания веков.
B. C. Теперь давайте немного отвлечёмся от поездки и обратимся к новым работам, написанным вами этой осенью после возвращения из Греции, но не связанных с нею. Я имею в виду волжские пейзажи Ярославской земли. Мне кажется, что это просто замечательные, праздничные для души картины. Тут такие интересные мотивы, ощущения. Но мне всё-таки хочется узнать – есть здесь по чувству перекличка с афонским вашим состоянием, с тем, что вы испытали там?
В. К. Конечно, Афон зарядил меня на долгие годы вперёд. Я узнал массу неожиданного, такого, о чём бы никогда не прочёл в книжках. Тот же пояс Богородицы, к которому я прикладывался не в окружении огромной толпы, а практически наедине, оставаясь один на один со святыней (уточню – нас было двое) – представляете, какие чувства человек в это время переживает. Словами это передать очень сложно, почти невозможно. Ведь видишь перед собой то, что является абсолютной святостью. Мы сейчас живём в десакрализированном пространстве. Даже туда, куда надо входить с трепетом в сердце, мы входим обыденно, почти бегом. А тут тебя что-то пригвождает, и ты переживаешь совершенно иное ощущение времени. Чувствуешь себя, с одной стороны, каким-то маленьким, ничтожным, а с другой стороны, большим. Это как если стоишь на высоком откосе и смотришь в раскинувшиеся перед тобой дали. Тебе кажется, что ты велик, а всё пространство расстилается у твоих ног. Но стоит посмотреть назад, на гору, что возвышается за твоей спиной, и враз ощутишь себя перед ней ничтожной малостью. Вот что-то сродни этому чувству я тогда испытал.
B. C. И это чувство подтолкнуло вас на поездку в Ярославль?
В. К. Нет, тут воля случая. Наша группа от Президиума академии художеств поехала отметить работу Петра Павловича Осовского. Он почётный гражданин Пскова, массу картин написал, посвящённых Псковщине. Мы выполнили свою миссию и остались в Пскове ещё на один день. И там я пережил ощущения, может быть, даже равные афонским. Мы посетили Мирошский монастырь на реке Великой. Тридцать лет назад я там уже бывал, но росписи двенадцатого века были закрашены более поздними наслоениями девятнадцатого века. Натуралистическая живопись, которая меня совсем не тронула. В общем, ничего особенного. И только чуть-чуть самый верхний ярус тогда не был записан. Но сейчас реставратор Владимир Саробянов со своей бригадой совершили чудо, научно отреставрировав весь объём росписи. Они сняли все поздние наслоения. Всё сделали без единого поновления – подлинно научная реставрация. Это подвиг – вернуть к жизни почти полностью сохранившийся истинно русский храм двенадцатого века. Когда мы туда пришли – это было что-то запредельное. Потрясение. И это меня подтолкнуло к работе. Осень хорошая, и я решил поехать в Ярославскую губернию. Неделю мы ездили по ярославской земле, видели многое – от уровня невероятного падения, ну просто дальше уже некуда (по состоянию разрушенности наша деревня упала туда, куда, кажется, просто невозможно упасть), с одной стороны, и с другой, такие высоты духа открылись нам, что захотелось всё это как-то осмыслить в живописи.