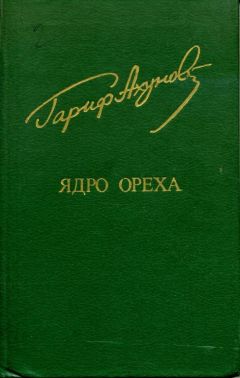Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
С первых же слов вы взяли изобличающий, исполненный едкого сарказма тон полемики, когда слова оппонента попросту не доходят до вашего сознания. Не полагаясь целиком на силу логики своих аргументов, напрасно вы пытаетесь заручиться поддержкой «думающего читателя», патетически взывая к его суду. Этого мало. К чему попытки «скомпрометировать» своего оппонента?
Кстати, ваше опровержение «логики» при помощи знаменитой драгомировской фразы о Жанне дАрк не отличается новизной. Именно эта фраза однажды уже «выстрелила» в качестве издевательского эпиграфа, поставленного Г. Шенгели к его книжке о Маяковском, в которой доказывается, что поэт был безграмотен, безыдеен и к тому же якобы выражает «люмпен-мещанскую» идеологию. Интересное совпадение!
Вы ушли от обсуждения предмета нашего спора, от конкретного разговора о путях участия защищаемой вами литературы в строительстве жизни (по сути, вы не ответили ни на один из моих вопросов!).
Против чего я «восстала» в своих статьях?
Меня взволновали и обеспокоили в произведениях некоторых молодых нотки обывательского пессимизма, пасующего перед трудностями, истерически предъявляющего кому-то счет за те непорядки, которых еще немало, но которые мы сами должны устранять.
Я писала, что слепой, болезненный протест против обывательщины — это выражение бессилия. Он, по существу, на руку обывателю, так как ему не опасен, а силы «протестующих» отвлекает, создавая иллюзию борьбы. А наши мысли должны быть поглощены тем, как в каждом конкретном случае преодолеть зло, активно, радикально. Именно в этом смысле я говорила об искусстве как побудителе светлых чувств. В какой-то мере художник несет в искусство свою неудовлетворенность, свое страдание, но это страдание должно быть преодоленным — осветленным борьбой. Светлые чувства — это не примитив (мол, «тот, кто постоянно ясен…»), это и сомнения и тяжелейшие конфликты, но для меня обязательно — сопротивление, преодоление их.
Вы «учили» меня пониманию поэзии, говоря, что стихи «нельзя анализировать как прозу». А Гоголя или Тургенева, прозу Бабеля или Пришвина можно читать как поэзию? Возможен ли здесь «водораздел»? Конечно, поэзию не сведешь ни к форме, ни к «умению», поэзия — это характер видения мира, это тип мышления, а значит, главное— идея.
«Боюсь, не по-разному ли понимаем мы идейность?» — спрашиваете вы.
Не зря боитесь — по-разному.
«Я читаю и говорю: это талантливо. Значит, это правда. Значит, этому-то и нужно давать идейное истолкование», — так рассуждаете вы. А несколько выше вы утверждаете: «поэзия — это нечто целостное».
Так, значит, читаете «Я помню чудное мгновенье…» и сначала чувствуете, а потом даете этому «идейное истолкование»? Где же целостность? Впрочем, не стоит ловить вас на алогизмах, их уйма.
Дело в более серьезном — в самом подходе к делу (кстати, я алогизмы — следствие этого подхода!). Есть подход созерцательный: хочу «истолковываю», хочу «перетолковываю», хочу просто «чувствую» — я, мол, вольный художник. А есть подход строителя, он дает целеустремленность и чувство ответственности. Тут уже не решается: хочу вижу «правду» — ту, хочу — эту. Тут правда одна — объективное понимание жизни во всей ее полноте и развитии.
Великое чувство ответственности, «важнейшая черта большого художника», обязывает к объективности. И если это чувство ответственности недостаточно велико, выхватываются несколько фактов — и представляются как знамение времени, как «лицо всего поколения».
И я думаю, что для настоящего художника, активно устремленного в завтра, органически неприемлемы ни эгоцентрическое бунтарство, ни «биологизм» некоторых молодых литераторов, вдохновляемых «глухонемой» музой или музой «измученной, с кругами темными у глаз».
Вы стремились доказать, что я против поиска. Упорно не «замечая» мои возражения, вы стремились «любой ценой» уверить читателя, что я за ремесленничество, за выхолащивание идеи, за робота — против Человека. Но поиск в искусстве, так же как живая конкретность идеи и специфика эстетического — само собой разумеющееся. Не об этом надо спорить, а о сути поиска.
Для меня эта суть — в поисках путей к полному «очеловечиванию» человека, к утверждению его общественного состояния как творца и хозяина жизни и в создании новых отношений и чувств, достойных его великого человеческого призвания.
Эмоциональные призывы к «поиску», «правде» и «справедливости» — это еще не поэзия. Важно вложить в эти понятия конкретное социальное содержание и сделать их достоянием каждого.
Ваши подопечные юные герои бегут из-под родительских крыш на таллинские пляжи, истерически рубят чужие серванты как символы мещанского разложения или в бессильной надежде «доказать им всем» гибнут в отчаянном рейсе, подобно Пронякину.
Такой протест, такой поиск — инфантильность. Человек в своем личном развитии в какой-то мере снова проходит путь, пройденный всем человечеством. И он может остановиться, «застрять» на одной из ранних стадий. Анархистский протест против «зла» (пошлости, серятины, инерции и т. д.) — пройденный обществом этап. Теперь, когда мы обладаем научной теорией преобразования мира, возврат к пройденным формам «борьбы» — социальная инфантильность.
Менее всего я стремлюсь делать вид, что все обстоит благополучно. Есть формалистика, недобросовестность, нетворческое отношение к труду — есть и реакции на них: скепсис, равнодушие, смятение. И то и другое требуют активнейшей борьбы с ними. Но брюзжание — плохое оружие. Нельзя, чтобы «люди внимали;— как метко пишет Р. Рождественский, — намекам, подко-лам и фигам в кармане». У таких критиканов надо забирать «моральный хлеб», не давать им спекулировать на — пока еще острых, «больных» темах, так же, как и у «бодрячков», мыслящих примитивно и «однолинейно», профанирующих высокие идеи.
Читатель ждет подлинно вооружающих произведений и нетерпим, когда ему подносятся мелодраматические или «железобетонные» суррогаты. В любом жанре, в том числе и в критике.
1962
Примечание 2000
В контексте декоративных «литературных баталий» первой половины 60-х годов этот диалог может показаться подстроенным, но, как ни странно, в реальности все было именно так, как рассказано. К нам в отдел критики журнала «Знамя» зашла познакомиться дебютантка отдела критики журнала «Октябрь», она сказала что-то «обидное» по поводу какой-то моей статьи, разговор был на людях, поэтому я ответил так же «обидно»; мы врезались в самозабвенный спор, при финише оного мне было предложено развернуть соответствующую полемику на страницах «Октября»; я заметил, что Кочетов никогда не «даст трибуну врагу», то есть такому молодому либералу, как я; мне было отвечено, что, кроме Кочетова, в «Октябре» есть такой тонкий и дальновидный человек, как Дымшиц, он — даст.
Несколько раз в ходе сочинения диалога я воздерживал мою собеседницу от разрыва дипломатических отношений, подсказывая ей иезуитски нейтральные выходы из пикировок, и мы преуспели: получили «трибуну». По тем временам это было важнее того, что в журнале «Октябрь» считали сутью дела: по «сути» они догвоздили меня в следующих номерах; но все-таки мне удалось продекларировать многое из того, что в других журналах мне неизменно вырубали за непроходимостью. Да и фамилия, четверть сотни раз тиснутая в ходе диалога, в век «массовых коммуникаций» значила едва ли не больше того, что казалось сутью. Этот диалог стал первой громкой моей публикацией: резонанс был гулкий (с выносом спора на читательские конференции), за границей «заметили» (между прочим, в Варшаве — гнездовье тогдашнего диссидентства).
При современном трезвом чтении особенно заметны белые нитки, которыми я шью свою позицию; это своеобразный парад хитроумных тактических приемов, с помощью которых молодые протестанты моего поколения дразнили своих ортодоксальных противников, оставаясь (и совершенно искренне) вместе с ними на общей платформе коммунистической веры. Решали тут не столько идеи, сколько человеческие аспекты.
По этой причине интересно в диалоге не состязание идей, а соотношение тембров. Я сохраняю эту публикацию в память о человеческом облике моей противницы.
Она была заметно старше меня. Нас невозможно было заподозрить в лирическом эквиваленте идейного противоборства; меж тем, именно это пришло в голову Борису Абрамовичу Слуцкому, когда он листал журнал с нашим диалогом; я ждал, что мэтр оценит мою диалектику, а он с проницательностью следователя-смершевца поинтересовался: «Вы не пробовали эту даму ущипнуть?» Я жутко смутился и был даже шокирован таким оборотом дела, но теперь, сорок лет спустя, готов и впрямь «ущипнуть» виртуальный образ, чтобы вернуть Ларису Крячко из небытия.