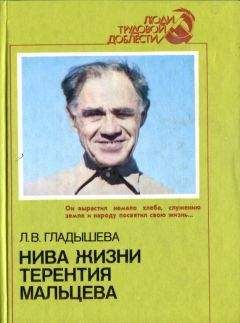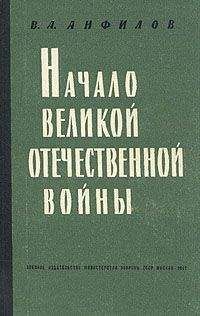Валерий Сдобняков - В предчувствии апокалипсиса
B. C. Как к вам пришло чувство живописи, откуда взялась тяга к рисованию у мальчика из исконно крестьянской семьи?
В. К. О-о-о, это отдельная история! Дело в том, что у меня были два старших брата. Один из них – Феоктист – вообще был гениальным человеком. Он закончил художественное училище в Омске. В 1940 году его мобилизовали в армию. Затем началась Великая Отечественная война, и он погиб. Но от Феоктиста осталось невероятно большое количество писем, написанных потрясающе красивым почерком, полууставом. Матушка заставляла старшего сына переписывать всякие церковные тексты. Подобные книги тогда уже не печатались, вот он и овладел в совершенстве этим уникальным почерком. Письма Феоктиста в большей части адресованы его брату Ивану, который был младше его (он сам 1919 года рождения, а Иван рождён в 1925 году). Меня тогда ещё на свете не было. Писал их Феоктист, когда учился в Омске. Письма подробные, потому что старший брат и младшего хотел видеть художником – Иван подавал такие надежды. Феоктист писал всякие подробные наставления о том, как и что изображать, как выстраивать композицию, а когда приезжал на каникулы, то, естественно, они вместе работали. Так вот, эти письма впоследствии стали для меня своего рода учебником. Потому что я их читал так, как будто они были адресованы мне. Хотя старший брат погиб в 1941 году, а я родился в 1946. В жизни мы никак не соприкоснулись, но присутствие его я, как бы естественно, ощущал. Потому что помимо писем в доме осталось ещё и очень много его гравюр. Кстати, перед тем как поступить в художественное училище, он работал главным редактором газеты – это в пятнадцать-то лет. Впрочем, тогда люди вызревали как-то намного быстрее. Он и стихи писал великолепные. Человек был невероятно яркого дарования.
B. C. Эти письма вы не издавали? Коль их так много, то надо бы издать. Сохранение памяти, не только вашей семьи, но и вообще национальной, того требует.
В. К. Ведь он помимо нас ещё много писем писал друзьям, знакомым девушкам. Красивый был парень, и эти девушки, когда уж совсем стали старушками, приносили и отдавали нам эти полуистлевшие листочки. Хранили их всю жизнь. В одной из своих книг, где много было помещено семейных фотографий (родителей, братьев, сестёр), я много писал о качестве почерка брата. Это как у Ф. М. Достоевского, помните, есть фраза в романе «Идиот», смысл которой сводится к следующему – почерк говорит о сути человека в очень большой степени. А уж подпись… У Феоктиста организация листа письма была идеальной. И плюс к этому – импровизационность его подписи. Так это всё у него было исполнено красиво, артистично. Хотя смысл писем страшный. Для меня это вечная дилемма – форма и содержание этой формы. В одном своём письме брат пишет о том, как он в Омске умирал от голода. Шли тридцатые годы, страна, как вы помните, переживала «головокружение от успехов». И вот нищенскую студенческую жизнь он описывает в таких невероятных подробностях, что всё это просто невозможно читать без слёз. Но написано (внешне) это так красиво, что залюбуешься! В этом, как мне кажется, кроется квинтэссенция существования вообще всего искусства. Не взирая ни на что, есть какая-то высшая сила, которая страданию придаёт черты благородные, красивые.
Теперь-то я понимаю, что в работах брата ещё много ученического, что его акварели и гравюры не совершенны, но я всё равно к ним отношусь, как к работам старшего, хотя они написаны человеком 17–18 лет, а мне самому уже шестьдесят пять.
B. C. Вы знаете, Виктор Григорьевич, я всё-таки хочу вам признаться, что на меня ваша выставка произвела очень большое впечатление – настолько я захвачен ею, настолько она внутренне меня всего всколыхнула. Но это ощущение в себе я не сразу осознал. Я долго ходил по залам. От каких-то работ уходил и возвращался к ним вновь. Видимо, интуитивно хотел разобраться – чем же они всё-таки так притягивают к себе, что меня так беспокоит, в чём тут дело. Подумал – может быть, весь секрет в том, что вы находите какие-то невероятные цветовые сочетания, насыщаете цвет густой сочностью? Или завораживаете зрителей своей изобразительной техникой, широкими энергичными мазками, благодаря которым рождаются образы, никем до этого не осуществлённые, не явленные миру? И почему одни художники кладут жизнь на то, чтобы как можно точнее, детальнее воспроизвести окружающий нас мир, а другие смело идут на эксперимент и достигают, кажется, в условных формах, намного большего эмоционального эффекта? Видимо, главное в искусстве кроется не только в традиции, но и сокрыто в тайной энергетике художника?
В. К. Нет, если традицию воспринимать как какую-то мёртвую схему – то это одно. А если художник вживается в неё, она раскрылась для него и он живёт внутри неё – то он совершенно свободен. Жить в каноне и быть свободным – в принципе это одно и то же. Человек не может быть абсолютно анархичен и делать только то, что он хочет. А канон очень строгий и одновременно он настолько разветвлён, настолько богат, настолько бесконечен, особенно в иконописи, что внутри этого жёсткого канона истинный художник свободен. Причём эта мера дана каждому с рождения – мера свободы и мера ответственности – когда ты общаешься с другим, когда ты воспринимаешь им сделанное, когда ты ему показываешь что-то своё сокровенное. Ведь одни сейчас показывают публике свои испражнения и не стыдятся этого (даже наоборот – гордятся своей «смелостью» и всячески подчёркивают, что вот они какие свободные), а другие выносят на суд людей что-то иное, трепетно хранимое в душе, и очень переживают, что это своё сокровенное они недостаточно хорошо выразили.
Живопись обладает удивительным свойством. Ведь это, с одной стороны, ремесло, которое лежит в основе всего и соединяет художника вообще с любой рукотворной деятельностью человека, в том числе и с крестьянской, а с другой стороны – искусство. И чего в живописи больше – сказать трудно. Так же, как невозможно объяснить соблюдение меры необходимого баланса. Это смешивание «таинственных потоков» происходит внутри художника. Результат этого «смешивания» мы и видим на холсте.
Глядя на огромное полотно, на загрунтованный холст, я вспоминаю, как отец пахал наш огород. Так вот – по какому-то своему напору работа пахаря и художника сродни. Я помню, как отец, дойдя до конца борозды, приподнимал плуг, чтобы развернуть лошадь обратно, и в это время отполированный лемех сверкал на фоне чёрной земли… Так что тут, без всякой натяжки, есть много точек соприкосновения.
B. C. И всё-таки какие-то из своих работ вы можете по тем или иным причинам выделить? Я предлагаю – давайте вместе пройдём по вашей выставке.
В. К. Конечно, пойдёмте. Я только хочу сказать, что почти в каждой картине есть такие места, в которые, добиваясь результата, я как бы вкладывался до конца. Но вообще, продолжаю уже поднятую нами тему, повторю, что ремесло даёт художнику чувство свободы. Он в любом ракурсе может нарисовать фигуру, и у него нет проблем, если он пишет портрет, как точно изобразить портретируемого. Ремесло – это основание творчества. А далее – это уже работа таланта, его раскрытие.
B. C. Всё-таки чувство колорита отчасти возникает у художника спонтанно, во время его работы, а отчасти продумывается заранее, перед началом работы над картиной?
В. К. Вот колорит не продумывается. Продумывается композиция, какой-то ритм, хотя и он иногда задаётся извне или изнутри. Он возникает вдруг и непонятно откуда.
B. C. Это когда первоначально изобразить задумывается одно, а в завершении работы получается нечто совсем иное?
В. К. Да, да, да… Где-то в приближении к тому, что ты хотел создать, но всё равно иное. И этот момент подчинения какой-то неведомой силе, которая внедряется, вмешивается в твою работу, ведёт тебя (не ты её вызываешь, а она требует от тебя – делай так и так, твоя рука должна идти туда, а не в другую сторону) очень важен в художественном творчестве.
B. C. У вас много работ не только на современные, но и на библейские темы. А вообще можно так сказать, что истинный художник всегда трудится вне времени, «питается» в творчестве своими внутренними переживаниями, своей памятью? Или время на вас тоже в значительной мере влияет?
В. К. Конечно, а как же иначе!
B. C. Но вот на манеру вашего письма, вашей живописи (что в ранних работах, что в теперешних), на мой непрофессиональный взгляд, время мало повлияло.
В. К. Техника, когда дело касается живописи, она универсальна для каждого художника – холст, краски. А вот манера письма… так ведь тут ты не можешь себе изменить. Какими-то косметологическими ухищрениями, если у кого-то такая потребность есть, её можно скрыть. Но ведь главная задача художника всё-таки выявить самого себя, войти в согласие с собой, осмыслить как-то, что ты делаешь. Каждая выставка – это попытка привлечь зрителя к осмыслению своего времени, а не устроительство для него какого-то развлечения.