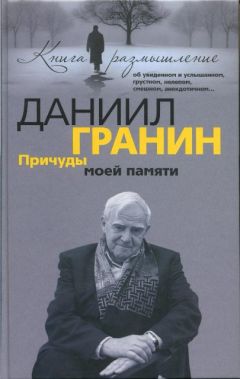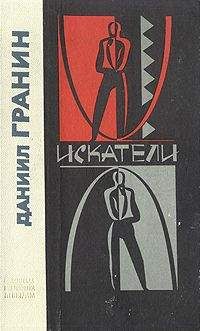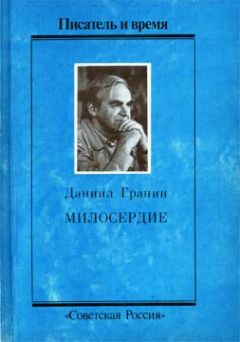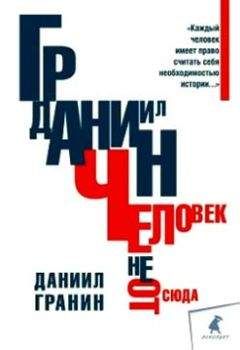Даниил Гранин - Причуды моей памяти
Выслушав, автор, то есть Пластов, удивленно развел руками: «Товарищ Полянский, вы присмотритесь, это же они десерт едят». Полянский присмотрелся. «Это другое дело», — удовлетворенно сказал он.
Петр Леонидович Капица редактировал «Журнал экспериментальной и теоретической физики» — «ЖТЭФ», основной журнал советских физиков. Вышло постановление сократить выпуск и объем журналов, в том числе и «ЖТЭФ». Капица запротестовал и попросил у Суслова доложить свои соображения. Его пригласили на секретариат ЦК КПСС.
Выступление его звучало примерно так:
— Представьте, что вы приходите в магазин купить сливочного масла. Пожалуйста, его сколько угодно: и топленое, и вологодское, и псковское, но продать не можем, бумаги нет.
Секретари засмеялись, и вопрос был снят.
Хорошая английская пословица:
«Дурак считает себя умным, а умный — дураком».
А эта Владимира Яковлевича Александрова:
«Никто не бывает дураком всегда, изредка — каждый».
АНТИЧНЫЕ БАЙКИ
У Перикла голова была в форме луковицы, скульпторы надевали на него шлем. На всех бюстах он в шлеме.
Александр, разрушая Фивы, единственный дом оставил в целости — поэта Пиндара, этого греческого гения «владыки поэтов и поэта владык».
Пиндар был уверен, что без песен поэта всякая доблесть погибает в безмолвии, и Александр это понимал.
Питтак, будучи правителем Митилены, отказался стать тираном и в конце концов сложил свои полномочия. «Знай свое время!» — его девиз.
Величайшие драматурги Эврипид и Софокл терпеть не могли друг друга.
—
Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому его ученики преподнесли его высказывание в стихотворной форме:
Ведь человек и суетен, и грешен.
Не отмечает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.
Чему Вы только нас не обучали,
Но если все до афоризма знать,
То главное — и в счастье, и в несчастье
Существенное в жизни отмечать.
Сентябрь 1980
—
«Дай, Аллах, мне силы бороться с тем злом, с которым можно бороться.
Дай, Аллах, мне терпение вынести зло, с которым нельзя бороться.
Дай, Аллах, мне разум, чтобы отличить одно от другого».
70-летие Михаила Матусовского, ему позвонили из бюро секции поэтов: «Составьте, пожалуйста, к юбилею текст приветствия». «Как же так, это же неудобно». «Да что вы, все делают, иначе напишет кто другой, переврет. Мы напечатаем все полностью, все, что напишете».
Он отказался, и что вы думаете — переврали.
Где-то в семидесятые годы я был в Севастополе. В первый раз был студентом до войны, а во второй — уже бывшим солдатом. Поэтому я увидел то, чего раньше не видал. Танки стояли на вершине горы Сапун у обрыва — памятники. Плюс самоходки. Пушки установлены. Земля расчерчена белыми колышками виноградников.
Между танками бродят жирные курортники, приехавшие на экскурсию, облокотясь на траки, фотографируются.
Танки все время подкрашивают, смазывают, держат чистенькими, такими, какими они сроду не были. На башне ИС выступ с какой-то трубкой, не могу вспомнить, зачем трубка. Не антенна. Забыл. Спросить не у кого.
А на Малаховом кургане была другая война. Редуты Синевина, старые пушки и новые воронки. Пушки стали смешными. Впрочем, и наши пушки тоже стали смешными.
Стояли памятники, сооруженные дивизиями и армиями Великой Отечественной. Свои скульпторы, архитекторы вычертили, слепили, саперы построили, отлили неумелыми, отвыкшими от тонкой работы руками.
Какой-то инженер соорудил памятник летчикам Севастополя, ему удалось передать стремительность полета. Эти памятники-самоделки сердечны, жаль, если их не сохранят.
Дашу Севастопольскую помнят, а наших героев не видно, не упоминают.
Да и вообще не слишком ясно, в чем был смысл так долго удерживать этот клочок земли такой кровью. В чем смысл обороны Севастополя 1942 года? Пошел бы Нахимов на такое?
Нынче эти впечатления кажутся мне странными. Прошло сорок лет, Крым уже не наш, Севастополь принадлежит Украине, душа не лежит с этим смириться, «этот клочок земли» хочется удержать всячески.
—
Физик Юрий Борисович Румер работал в шарашке в отличной компании. Сидельцами, «врагами народа» были Королев, Глушков, Мясищев, Туполев, Петляков. Румера привлекли как теоретика, там он написал работу о фазовых превращениях и что-то по квантовой механике. Кажется, вместе с ним сидел и Борис Викторович Раушенбах. Словом, собрали цвет авиа– и ракетостроения.
Румер считал себя циником. «Обстоятельства, в какие я попадал, были поразительно циничны, — рассказывал он, — судите сами, по этапу я ехал с пленным немцем — гауляйтером из Таганрога, который истреблял евреев. Мы ехали с ним в одном вагоне, спали рядом на нарах, ели одну баланду. Такое подстроило мне соседство судьба. Разве это не цинизм с ее стороны?»
Еще он поведал мне историю о неком заключенном (подозреваю, что это был он сам), как однажды в шарашке вызвал его следователь и поздравил — какой у него сознательный сын, четырнадцать лет, все понимает, написал добровольно, никто не уговаривал писать, заявление, что отказывается от отца — врага народа. Осуждает мать, которая жалеет об отце, ведь идет война, врагов нельзя жалеть. Сын — искренний противник отца, правда, его все равно исключили из школы, но чекисты постараются его устроить в другую школу.
После войны, через три года, отец вернулся с наградой за самолет, созданный в шарашке. Когда собрались отметить его возвращение — пришли Туполев, Королев и другие. Сын в другой комнате рыдал, не смея выйти к ним.
Жена отозвала его, попросила выйти к сыну, как-то утешить, успокоить. На это он ответил так: «Есть огорчения, которых нельзя избегать, надо их пережить полностью, иначе жизнь ничему не научит».
Я спросил у Румера, за что его посадили, я у всех, кто возвращался, спрашивал. Они пожимали плечами. Никто не знал за собой нарушения закона. Никто. Румер сказал, что как-то приехал к ним в шарашку Берия отметить сдачу проекта. В застолье один итальянец, был среди них такой, обратился к наркому, что вот, мол, его посадили ни за что. Берия благодушно, с чекистским юмором ответил: «Если бы было за что, то, дорогой мой, ты тут бы не сидел».
Наверное, он был прав. Сидел ли кто-нибудь из тысяч и тысяч заключенных советских людей за что-то?
Был среди односидельцев Румера один комкор, то есть командир корпуса, так он убежденно повторял: «Значит, так надо». У него сомнений не было, наверное, так ему было легче.
Боже ты мой, вдруг среди вороха ежедневных писем, просьб обиженных, уволенных, требований графоманов попалось маленькое письмо однополчанина по Кировской дивизии, к тому же из нашего батальона, да еще по самому драматическому времени — сентябрь 1941 года, когда мы оставляли Пушкин. Пишет и про полковника Лебединского, нашего командира. Удивительно! Сорок с лишним лет никого не встречал из того нашего разгромленного, разбомбленного на смерть полка, казалось, никого не осталось в живых. Был Э. Писаревский — умер. Володя Лифшиц — умер. Капралов, Ермолаев — никого не осталось, все затянулось, заросло, следа не найдешь. И вот объявился. Надо же! Радость, словно встретил в пустыне… Пишет: «Соприкасались мы с Вами в Пушкине, в сентябре 1941-го, когда штаб стоял недалеко от пионерских лагерей… Если Вы помните, то числа 15 сентября у штаба сидели две девушки в гражданском, их ночью переправили через линию фронта, а утром наш штаб накрыли артогнем». Как накрыли, помню, еле вылез, а девушек не помню, но странная эта подробность убедительна. Если б он что другое привел, может, я и усомнился. Был он, Аркадий Иванович Богданов-Савельев, в роте связи, прослужил до 1948 года, потом уехал на родину, под Воронеж. Он попросил у меня «Блокадную книгу», я послал, написал письмо, спрашивал про то, что с ним было потом зимой 1941/42 года. Получил ответ, общие слова, ничего нового для меня не помнит. Память мою не поправил, колыхнулось что-то и улеглось. Воспоминания о войне его, видать, не шибко интересовали, солдаты этим не занимаются. В то военное прошлое мало кто ходит. А зачем?
КАК ОНИ НАЧИНАЛИ
В детстве Макса Планка поразил рассказ о кровельщике, который втаскивает на крышу тяжелую черепицу. Работа его не теряется, она сохраняется долгие годы. Практически вечно хранится, пока случайно не сорвется вниз и трахнет что-то, кого-то, это принцип сохранения энергии. Сохраняется бессрочно.
Однажды Абрам Федорович Иоффе, «папа советских физиков», рассказал мне, как начиналась его жизнь ученого.