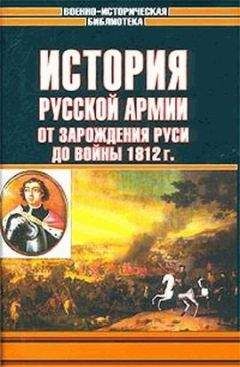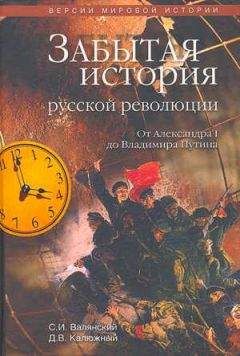Русская идея от Николая I до путина. Книга IV-2000-2016 - Янов Александр Львович
Так или иначе, поведение украинских солдат, нечаянно воспетое Прилепиным, не укладывается в эту привычную «парадигму интересов», если можно так выразиться. Он ведь сравнил его с поведением не только древних греков, но и «россиян в страшные моменты истории». И, даже каясь, не забыл упомянуть про «пассионарный взрыв» в Украине. Читайте: говорят украинцы как раз на том ценностном языке, которого не понимают российские политики. Они живут в другом мире.
Впрочем, я упростил проблему. Путинские политики не просто не понимают ценностного языка, они понимают, что не понимают его и что это опасно. И пытаются выдать свое непонимание за «особый путь» понимания. Согласно «Стратегии безопасности РФ» (2015), например, свобода и права человека объявляются «традиционными ценностями России». Несмотря на то. что дети учат в школе русскую классическую литературу, которая буквально кричит, что действительная традиция России — ПРОИЗВОЛ И ОТРИЦАНИЕ СВОБОДЫ. Но не может ведь и такая беспардонная и беспомощная манипуляция скрыть факт когнитивного диссонанса. А важен этот диссонанс и впрямь первостепенно. Ибо пока не заговорим мы на одном языке, «мира не будет!», как признался Прилепин. Да, что там Прилепин. Библия учит: «А жизнь и смерть ваша в вашем языке». Тут, однако, еще одна проблема: существуют ведь и фантомные, реакционные ценности («жизнь отдам за то, чтобы вернуться в позавчерашний мир!»), например, пра-ценности воинствующего Ислама, общий язык с которым современный человек найти в принципе не может. Это проблема цивилизационная. Другое дело «ценности» воинствующего имперства. Как нечаянно засвидетельствовал Прилепин, столкнувшись с реальными ценностями украинского солдата, эти «ценности» тотчас обнаруживают свою подложность, маскирующую все те же ИНТЕРЕСЫ власти.
Так откуда же эта лингвистическая проблема российской власти? Из какого мира она произошла? Где посеяна буря, которую мы пожинаем? Попробуем разобраться.
Предыстория
Начинать, увы, придется издалека. Тридцатилетняя война католиков и протестантов закончилась в середине XVII века скверным компромиссом. Вестфальский договор 1648 года гласил: «Чья власть, того и вера». Не предусматривался в нем, иначе говоря, ни гарант нового миропорядка, ни общепризнанная шкала ценностей. Мир фрагментировался: каждый за себя и никто за всех. Решала сила. Крупнейший современный специалист в области международных отношений Кеннет Волтз определил этот вестфальский мир как «беззаконную анархию». Другой эксперт Роджер Мастерс остроумно назвал свою книгу «Мировая политика как первобытная политическая система».
Впоследствии система эта получила более благозвучные названия: «баланс интересов» и Realpolitik, но первобытная ее суть от этого не изменилась.
Так и формулировал самый влиятельный из ее современных гуру Ганс Моргентау в своем знаменитом труде «Политика наций»: «Государственные деятели мыслят и действуют в терминах интереса, определяемого как сила. И постольку мировая политика есть политика силы». Но ведь это и есть анархия: циник сказал бы: у кого больше железа, тот и прав. В африканском племени Нуэр, сохранившемся благодаря изоляции от мира, говорили туземцы проще и ярче: «Правда — на кончике копья».
Иногда в этот застоявшийся «вестфальский мир» врывались, как метеоры демонстративные «нарушители баланса», которым удавалось на время доминировать в Европе. Либо потому, что были сильнее всех, либо потому, что воображали себя самыми сильными, как тараканище из сказки Чуковского, а остальные не смели это проверить.
Самыми яркими представителями обеих этих разновидностей гегемонии, основанной на силе-реальной и воображаемой — были в XIX веке Наполеон и Николай I. В ту пору, впрочем. великие державы умели еще. объединяясь, общими силами устранять таких гегемонов. Как правило, однако, «нарушать баланс» позволялось. Но лишь договорившись предварительно с другими и пообещав им кусок потенциальной добычи.
На протяжении всего XIX века «нарушали баланс» обычно за счет деградирующей на задворках Европы Оттоманской империи (раздел Африки не в счет, там никто ничего не «нарушал», Африка считалась ничейной). Эта гигантская евразийская и евроафриканская империя (я назвал ее в трилогии «Турецкой Московией» потому, что так могла бы выглядеть и Россия, не разверни ее вовремя лицом к Европе Петр) была самой легкой добычей.
Откусывали от нее кусок за куском, начиная с греков, добившихся в 1820-е при помощи Европы независимости, и французов, откусивших в 1830-е Алжир, и все равно до самой Первой мировой войны хватило.
И все-таки по мере того, как к XX веку раздел Африки подходил к концу и «опоздавшие на сафари» нетерпеливо топали ногами, все явственнее становилось, что великие державы скоро начнут «нарушать баланс» друг за счет друга. В воздухе запахло большой войной. Никакого механизма ее предотвращения в «вестфальский мир» международной анархии, естественно, встроено не было. Самые дальновидные предчувствовали, что несчастье надвигается беспрецедентное. Август Бебель предупреждал в рейхстаге, что мировая война закончится революцией, над ним посмеялись. Совсем молодой еще тогда Уинстон Черчилль пытался объяснить в палате общин, что «войны народов не похожи на войны королей и кончаются тотальным разгромом побежденных», но его не услышали.
И — случилось! И революции случились, и тотальный разгром побежденных. Только вмешательство заокеанской державы спасло Европу от гегемонии Германской империи. Цена ее попытки, однако, оказалась непомерной, катастрофической. Девять миллионов (!) солдат, моряков и летчиков пали на поле боя, втрое больше оставила по себе война молодых калек. Столько несчастных семей и погубленных надежд! Долгосрочными последствиями войны стали распад четырех империй, две грандиозные революции — большевистская в России и национал-социалистическая в Германии, — сделавшие неизбежной Вторую мировую войну, геноцид армян в Турции и вдобавок еще «испанка», эпидемия смертельного гриппа, унесшая столько жизней, что никто их до сих пор не подсчитал…
Но даже эта поистине величайшая геополитическая катастрофа ничему мир не научила. Он по-прежнему оставался «вестфальским» — без гаранта международной безопасности и без общепризнанной шкалы ценностей. Анархическим, другими словами, он оставался. Таким примерно, возвращения к которому деятельно добивается сегодня путинская дипломатия.
Как жилось России в «вестфальском мире»?
Российская империя неслучайно оказалась первой жертвой мировой войны. Ее падение началось еще в середине XIX века — с момента антипетровской революции Николая I, с рождения (или возрождения?) московитской Русской идеи и знакомого уже нам ее «соловьевского недуга» (см. гл. «История как союзник»), т. е. способности к всенародной погоне-за фантомом. С момента, о котором Чаадаев сказал: «Не хотят больше в Европу, хотят обратно в пустыню». Не удивительно, что оказалась с этого момента Россия легкой мишенью для манипуляторов, как отечественных, так и зарубежных (Ленин со своим фантомом коммунизма так же искусно использовал «соловьевский недуг», как Бисмарк-фантом панславизма). Даром ли, что именно с этого момента не только неизменно терпела Россия поражения в серьезных войнах (в Крымской, Японской, мировой), но и единственная ее победа (в Балканской войне 1877-78) оказалась по существу неотличимой от поражения? Проще, впрочем, показать, как это было.
Русско-турецкая война началась в апреле 1877 года. Ей предшествовали международные переговоры, секретные встречи, обмен нотами. Дело было серьезное, все-таки России предстояло «нарушить баланс». Судя по всему, «нарушать» его она не хотела. Во всяком случае, царь (Александр II) был категорически против войны, правительство тоже. Министр финансов бил тревогу, что война может привести страну к государственному банкротству (к дефолту, чтоб было понятнее). Военный министр заявил, что армия к войне не готова. Канцлер Горчаков предупреждал, что война чревата еще одной Крымской трагедией. И все-таки она началась. Как это объяснить?