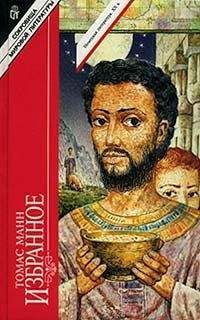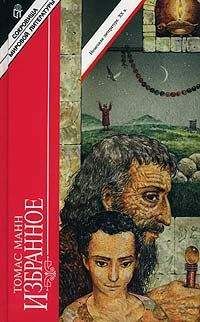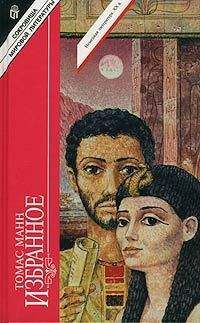Меир Шалев - Секреты обманчивых чудес. Беседы о литературе
Хотя можно сказать, что писательство мыслимо и без чтения, тогда как чтение немыслимо без писательства, но это упрощенный взгляд. Дело обстоит сложнее. Даже если пишущий идет во главе, а читатель следует за ним, книга создается ими обоими. Сюжет, идеи, образы, герои — все это не успокаивается на достигнутом по завершении процесса написания книги. Книга воссоздается снова и снова с каждым ее читателем, и тысяча лиц и толкований, которые каждая новая тысяча читателей находит в ней, — убедительное тому доказательство.
Пользуясь терминами оптики, можно сказать, что книга, излучаемая памятью, душой и воображением писателя, преломляется в призме, которой является читатель. Одна память пробуждает другую, образ порождает ощущение, фраза переводится в картину, один жизненный опыт поверяется другим.
Книга, как правило, действует в той сфере жизненного опыта, которая является общей для всех читателей и одновременно разделяет их. Все мы, как известно, слепки нашего детского опыта, но, когда писатель описывает свое детство, это описание пробуждает у тысяч читателей воспоминания о тысячах иных детств. И точно так же все мы, в большинстве своем, знаем, что такое любовь (даже если затрудняемся дать ей определение), но та придуманная или реальная любовь, которую писатель пытается облечь в слова, читается в свете тысяч немых Любовей, в которых он не имеет ни доли, ни понимания.
К этому надо еще добавить, что читатель, подобно писателю, тоже существо крайне эгоцентричное. Он выбирает в книге то, что его трогает, что является хоть и чужим, но одновременно знакомым для него. С этой точки зрения, читатель похож на женщину, которая увлекается мужчинами, похожими на ее мужа. Он любит новое, которое напоминает ему старое, иное, что волнует сходством со знакомым, и знакомое, которое удивляет его новизной. Что-то такое, что известно многим другим, но только он, на свой лад, понимает.
Пишущий обязан принимать это во внимание. Он должен быть щедрым и терпеливым. Я помню отзывы некоторых читателей на мои первые книги. В свое время эти отзывы показались мне очень странными. Намеки, которые я рассеивал, как следы на дороге, эти люди даже не заметили, и хуже того — вещи, которые казались мне простыми и обыденными, они восприняли как многозначительные и глубокомысленные.
К счастью, я прочел много больше книг, чем написал, так что позиция читателя знакома мне лучше, чем позиция писателя. После некоторого периода мучительного привыкания я научился должным образом принимать эти отзывы и заодно извлекать из них конструктивные уроки.
Здесь я хочу вспомнить одного из моих наставников в этом деле — английского писателя Генри Филдинга. В своей книге «История Тома Джонса, найденыша» он много раз обращается к читателю и уже в одном из первых таких обращений говорит:
Читатель, нам невозможно знать, что ты за человек: может быть, ты сведущ в человеческой природе, как сам Шекспир, а может быть, не умнее некоторых редакторов его сочинений. Опасаясь сего последнего, мы считаем нужным, прежде чем идти с тобой далее, преподать тебе несколько спасительных наставлений, дабы ты не исказил и не оклеветал нас так грубо, как иные из названных редакторов исказили и оклеветали великого писателя[178].
В этом корень проблемы: писатель не знает своих читателей. Они неизвестны, они многочисленны, они непохожи друг на друга, они — те чужие, кому он посылает свою книгу. Но, в отличие от почтового отправления, на котором написаны имя, адрес и индекс, книгу он кладет к корзинку из тростника и посылает по течению, не зная, к кому она прибудет[179]. Многие писатели просто кладут корзинку в воду и возвращаются домой. Они не хотят знакомиться с читателем или обращаться к нему. Но иногда нам встречается дружественный писатель, чтобы не сказать — писатель озабоченный: иногда он стоит в камышах, подобно Мириам, сестре Моисея, и издали смотрит, что произойдет, а иногда ведет себя, как Сибилла из «Избранника» Томаса Манна, которая положила в бочонок со своим сыном Григорсом записку, письмо неизвестному, который найдет его.
Такое письмо — не просто образ. Нередко писатель действительно посылает своим читателям послание прямо со страниц книги, и зачастую эти послания очень интересны и приоткрывают нам ход его мыслей. Они могут быть дружескими и существенными, или трогательными, или информативными. Порой это послания кокетливо-заискивающие, а в большинстве случаев они свидетельствуют о том, что писатель не вполне уверен в способности своей книги плыть самой или в доброжелательности тех, кто вытащит ее из воды.
Все мы с этим сталкивались. Иногда такое обращение находится прямо в тексте рассказа, иногда — особенно в детских книгах — это официальное обращение, именуемое «предисловием». Эрих Кестнер, один из величайших предпосылателей предисловий, увенчал предисловие к своей книге «Когда я был маленьким», утверждением: «Нет книги без предисловия» и далее сказал следующее:
Дорогие дети и не дети!
Друзья давно уже посмеиваются над тем, что ни одна моя книга, мол, не выходит в свет без предисловия. Мало того, были книги, к которым я ухитрялся писать по два и даже по три предисловия! Тут я, прямо сказать, неутомим. Пусть даже это дурная привычка — меня от нее не отучить. Во-первых, от дурных привычек всего труднее отучаешься, а во-вторых, я вовсе не считаю это дурной привычкой.
Предисловие для книги все равно что палисадник перед домом: оно одно из главных ее украшений. Конечно, существуют дома и без палисадников и книги без предисловиев… простите, без предисловий. Но книги с палисадником… тьфу, с предисловием мне куда милей. Я совсем не желаю, чтобы посетители с бухты-барахты вваливались ко мне в дом. Ничего хорошего в том нет ни для посетителей, ни для дома.
Этот подход Кестнер воплощал во все своих книгах — к своему собственному удовольствию и к удовольствию всех тех, кто любит предисловия. Что же касается меня, я бы предпочел предисловия менее развлекательные, такие, которые ограничиваются сообщением фактических деталей, необходимых для понимания книги.
Такое предисловие есть у Нахума Гутмана в книге «Тропа апельсиновых корок». Это предисловие имеет особую структуру: его первая часть содержит несколько справок и разъяснений по поводу первых дней Тель-Авива. Потом, под заглавием «Предисловие», Гутман в одной фразе определяет время действия (Первая мировая война) и говорит, что его книга представляет собой «правдивый рассказ о событиях, как они произошли». После этого, под заголовком «Второе предисловие», описывается сюжетный фон: изгнание евреев Тель-Авива турецкими властями и облава на молодежь, которая скрывается от мобилизации. И затем, как будто со вздохом облегчения, Гутман пишет: «Я покончил с предисловиями» — и сообщает: «Теперь мы можем перейти к первой главе».
Свою «Беатриче» он тоже предваряет необычным предисловием. Правда, он называет эти первые страницы «Вступлением», но они представляют собой не что иное, как первую часть, начало книги. Эта глава заканчивается словами: «До сих пор — вступление», и Гутман продолжает свой рассказ с той же точки. Если бы не заглавие и не заключительные слова, мы бы и не знали, что прочли вступление.
Вступление может приобрести и более личный характер. Шолом-Алейхем предваряет свою автобиографию «С ярмарки» объяснением причин ее написания:
Друзья мои не раз упрекали меня за то, что я не беру на себя труда ознакомить публику с историей своей жизни. Пора, говорили они, это было бы весьма интересно. Я послушался добрых друзей и неоднократно принимался за работу, но всякий раз откладывал перо, пока… пока не настало время. Мне не исполнилось еще и пятидесяти лет, когда я удостоился встретиться лицом к лицу с его величеством ангелом смерти.
Каждый раз, читая эти строки, я снова вспоминаю, что и я встречал этого ангела. Поскольку в данном случае это был не мой ангел, а ангел Шолом-Алейхема, моя встреча с ним была менее драматичной, чем его встреча. И тем не менее я испытал одно из самых горьких мгновений в своей читательской биографии, когда мне стало ясно, что «С ярмарки», как и «Мальчик Мотл» остались неоконченными из-за смерти автора и я никогда не узнаю их конец. Я хорошо помню ту последнюю одинокую букву в «Мальчике Мотле» — первую букву той новой главы, которая никогда не будет написана, а за ней — несколько рядом черточек, которые выглядели, как беззубый рот, и объяснение переводчика, что Шолом-Алейхем умер, не завершив эту книгу.
Я был тогда мальчиком девяти-десяти лет и почувствовал, что меня обманули. Я сердился, что меня не предупредили заранее. Из читательского эгоцентризма я больше жалел себя, чем Шолом-Алейхема. Позже, в молодости, я сталкивался и с другими неоконченными книгами: «Приключения авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна, «Бравый солдат Швейк» Гашека и «Мертвые души» Гоголя. В прошлой беседе я уже говорил, что и тогда я испытал разочарование и огорчение, но уже не настолько остро. Я уже был старше и опытней.