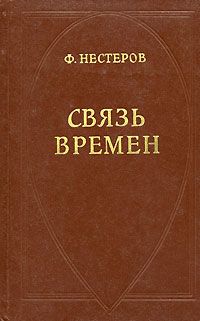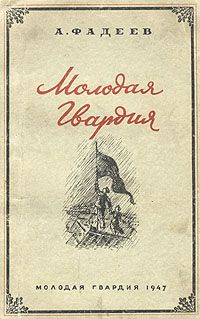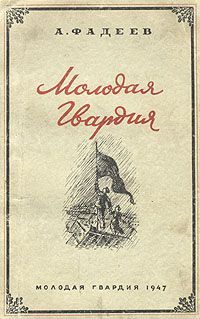Сергей Лесков - Умные парни (сборник)
Необходимо резко поднять кпд использования традиционного топлива. Президент Клинтон поставил задачу, которую поддержал президент Буш: создать экономичный автомобиль нового поколения с мощностью двигателя 80 лошадиных сил с расходом топлива 4, 2 литра на 100 километров. На этом автомобиле будет установлен каталитический выхлоп и режим дожигания в плазменном слое.
Вопрос: Общество балансирует между экономикой и экологией. Хочется, с одной стороны, быть богатым. С другой стороны, не меньше хочется быть здоровым.
Ответ: Могу лишь еще раз повторить слова академика Стыриковича о соотношении энергетики, физики и экономики. Производство любого вида энергии наносит ущерб экологии. Самый большой экологический удар – несомненно, угольная промышленность. Поскольку запасы угля неисчерпаемы, на экологическую сторону отрасли глаза закрывают. Энергетика – очень консервативная и инерционная область. О преимуществах парогазовых турбин над обычными паровыми говорили очень давно, но только сейчас началось их повальное внедрение.
Рассуждая о перспективах энергетики, надо прежде всего помнить, что всякий ее вид – вопрос не только технической реализации, но и экономической оправданности.
2009
Профессор Владимир Чигринов (Гонконг)
ПОЧЕМУ В РОССИИ Я НЕ СТОИЛ НИЧЕГО, А ЗА ГРАНИЦЕЙ СТОЮ ОЧЕНЬ ДОРОГО?
В конце 1990-х годов газеты писали о прорывных, мирового уровня работах профессора Владимира Чигринова в области полупроводниковой дисплейной техники. В одной из публикаций была фраза: «Прибытие Чигринова на заседание Международного дисплейного общества – все равно что визит Сталлоне в Москву». Потом о Чигринове написал далекий от высоких научных дум «Плейбой», составив перечень лучших российских технологий, ни одна из которых, впрочем, за прошедшее десятилетие не была реализована. В 1998 году профессор Чигринов уволился из Российской академии наук и след его затерялся. И вот через десяток лет волею случая мы встретились вновь…
Вопрос: Дорогой профессор, вы замечательно выглядите. Как дела и каковы планы?
Ответ: Хочу купить виллу в Гонконге, пора хорошей недвижимостью обзавестись, благо доходы позволяют.
Вопрос: Так вы не на Западе, а на Востоке осели. Оправдано ли мнение, что передовая электроника уходит с Запада на Восток?
Ответ: 97 процентов жидкокристаллических дисплеев производит Юго-Восточная Азия, поэтому я пребываю на переднем крае науки. В Университете науки и технологий Гонконга состою полным профессором. В Гонконге больше нет полных профессоров из России. Это высшая ставка, которую сохраню до пенсии. Мой сын учится в университете, а жена имеет возможность не работать.
Вопрос: Как с научными успехами в незнакомой среде? Вы же по-китайски ни слова…
Ответ: В Гонконге все знают английский. Меня избрали действительным членом Международного общества информационных дисплеев (SID). Громадное большинство членов SID – американцы и японцы, из Восточной Европы, СНГ и России никого. За десять лет я сделал примерно столько же, сколько в России за двадцать пять – 2 монографии, 35 патентов, 80 статей, 5 китайских аспирантов. Но Россия из души не уходит. В 2007 году мне удалось организовать в Президиуме РАН международный конгресс по дисплеям. Это очень важно, потому что в важнейшей области мы потеряли позиции и на международные конференции наши ученые не ездят. В России остались сборочные производства по чужим технологиям…
Вопрос: Дисплей, он же экран, ежедневно маячит перед глазами даже тех, кто проклинает компьютерный век. Телевизоры, ноутбуки, телефоны, различные табло и панели – это мир дисплеев. Как получилось, что в середине 1990-х мы строили амбициозные планы, а теперь оказались на задворках?
Ответ: В начале 1990-х годов Россия держала 5—10 процентов мирового рынка жидкокристаллических материалов, сейчас мы упали почти до нуля. Мы делали 1 тонну при мировом объеме в 11–12 тонн. Сейчас мировой рынок вырос до 2 000 тонн, но России на нем нет, хотя цена 1 грамма достигает 20 долларов. То есть на кону – миллиарды. Директора институтов, вырвавшись на коммерческую свободу, быстро и за гроши распродавали уникальные ключевые технологии. Никто не неволил, не подстрекал – это наш собственный выбор. Я много лет работал в Институте органических полупродуктов и красителей (где, кстати, когда-то работал Лужков) – и все, что мы всем коллективом сделали за пятнадцать лет, директор и главный технолог втихаря сплавили китайцам. Знаю множество охотничьих историй про «директорские» контракты, от ловкости которых за границей за голову хватаются. Когда я увидел, как Россия продает свои ноу-хау, я решил уехать вслед за ними. Если бы я не уехал, мне пришлось бы менять профессию. Впрочем, я остаюсь вице-президентом Российского дисплейного общества, отвечаю за связи с Азией.
Вопрос: Любая информационная система без дисплея – пшик. 80 процентов информации человек воспринимает через зрение. Прогресс в компьютерах мы ощущаем благодаря дисплеям. Какие революции ожидают человечество на этом фронте?
Ответ: В 1991 году на коллегии Миннауки, где воспевали лучевые трубки, я сказал, что это вчерашний день и надо переходить на жидкокристаллические дисплеи, но меня на смех подняли. Сегодня электронно-лучевые трубки можно увидеть только в музее, 90 процентов плоских дисплеев выполнены по жидкокристаллическим технологиям. Скоро уйдут и плазменные телевизоры, которые по всем параметрам уступают жидкокристаллическим.
Вопрос: Плазменных ноутбуков, кажется, не существует в принципе…
Ответ: У них слишком высокое энергопотребление. Единственный плюс плазменных телевизоров – большие размеры. Но в Европе уже введено ограничение по диагонали – не больше 54 дюймов. Думаю, США тоже перейдут на этот стандарт. Следующим шагом станут «зеленые технологии» с чистым производством, минимальным энергопотреблением и полной утилизацией отработавшего дисплея. Что касается качества изображения, оно зависит от минимального размера пикселя, но уже близок предел – 200–300 микронов. Дальнейшее снижение глаз заметит, только если совсем близко подойти к экрану, а это опасно из-за облучения. Поэтому прогресс развернется в сторону SD-технологий, когда на экране можно увидеть, что происходит за спиной изображения. В 2010 году в Азии начинается массовый переход на объемные SD-технологии.
Вопрос: Неужели Россия не может войти в эти процессы? Вот, к примеру, нанотехнологии у нас бурно развиваются…
Ответ: Китайцы – очень хорошие люди, но я с ума схожу без России. Предложил Роснано совместный проект по жидкокристаллической «электронной бумаге», которую можно чуть не бесконечно использовать для ценников, кредитных карт, объявлений. Ищем возможности для производства в России. Это, как выяснилось, сегодня даже сложнее научного открытия. Еще одно мое предложение – проекторы размером в 1 кубический сантиметр, которые позволяют передавать изображение – например, кинофильм – из мобильного телефона на любой экран, вплоть до своих очков. А также – гибкие дисплеи, которые позволят носить телефоны на руке, как часы. Все эти проекты вполне реальны и в Юго-Восточной Азии будут быстро реализованы, но Россия еще может вступить в конкуренцию.
Вопрос: Ваши рассказы выглядят совершенно фантастичными. Но я заметил, что мобильный телефон у вас, профессор, допотопный. Это не поднимает доверия к вашим проектам.
Ответ: Это не мой телефон, я взял на время у русского коллеги. У меня в Гонконге вообще нет мобильного телефона. Я на работе с девяти до двадцати трех. Если выхожу, меня обязательно найдут с помощью телефонных переключений. В Гонконге профессора стоят очень дорого. Полностью оплачивается квартира, поездки на международные конференции, отпуск – два месяца, налог – всего 15 процентов. Правительство и частные компании различными механизмами поддерживают научные идеи – финансируется половина заявок. Оборудование – только мечтать. На свои гранты имею возможность приглашать ученых из России, надеюсь наладить сотрудничество. Но часто приезжают не ученые, а всякие начальники, чтобы просто отдохнуть, поглазеть на Гонконг. Как эти люди отчитываются о командировке, ума не приложу. Даже российский вице-консул не может их с увеселений вытащить. Вот недавно приезжал проректор московского вуза с женой – ему очевидно не до науки.
У меня много патентов, монографий, званий, денег. Но гнетет мысль: почему дома я не стоил ничего, а за границей стою очень дорого? Эта мысль не позволяет мне быть счастливым.
2009
Профессор Максим Франк-Каменецкий
Я УДИВЛЯЮСЬ, КОГДА ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ В РОССИИ
Профессор Максим Франк-Каменецкий – автор нашумевшей на заре гласности статьи «Перестройка в науке», опубликованной в 1980-х годах в «Литературной газете», а затем в знаменитом сборнике «Иного не дано». В те годы он заведовал отделом в Институте молекулярной генетики и кафедрой молекулярной биофизики в МФТИ. Профессор Франк-Каменецкий стал одной из самых ярких фигур первой волны утечки умов из России в перестроечные годы. В начале 1990-х он получил должность постоянного профессора в Бостонском университете США. Почему же перестройка в России обманула ожидания, а наука так и не смогла восстать после кризиса? Профессор Максим Франк-Каменецкий размышляет о том, какими ему видятся главные проблемы российской науки, в каком направлении она движется и насколько острой является сегодня проблема утечки умов.