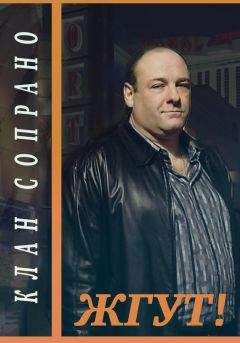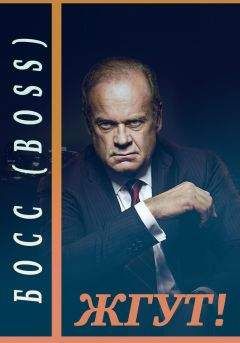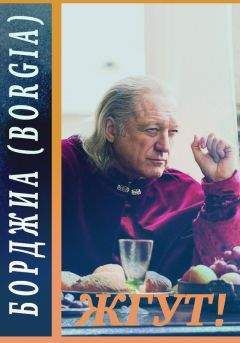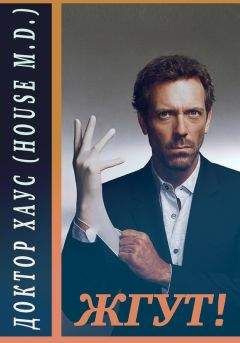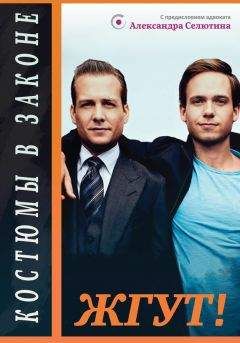Гаральд Граф - Моряки. Очерки из жизни морского офицера 1897‑1905 гг.
После полудня дали распоряжение сесть по койкам. По‑видимому, мы входили в порт, где нас предполагалось высадить, и нам чего‑то не хотели показывать. Даже иллюминаторы задраили боевыми крышками. Все же одному офицеру, который сидел в каюте с окнами, закрытыми лишь занавесками, удалось рассмотреть те места, которыми шел пароход. Оказалось, что он вошел в главную базу японского флота Сасебо, где на рейде стоял весь боевой флот. В бортах некоторых кораблей виднелись пробоины, и не их ли скрывали от нас?! Но чему никто и верить не хотел, так это тому, что якобы там же стояли и некоторые наши корабли под японскими флагами. Среди них этот офицер заметил «Орел», «Николай I», «Сенявин» и «Апраксин». Для нас это известие было жестоким ударом: так, значит, не только чудовищное поражение, но еще и позор сдачи!
Скоро пароход отдал якорь, и нас переправили на берег и сейчас же разделили. Офицеров поместили в деревянном бараке на огромном дворе перед морскими казармами, а команду увели куда‑то в другое место. На дворе с утра до вечера происходило обучение новобранцев строю, и в конце концов нам до отвращения надоели команды и крики обучающих.
Из этого барака мы не имели права никуда выходить, и только разрешалось гулять вдоль его стен. К нам почти ежедневно наведывались японские офицеры с переводчиками, страшно утомляя допросами. Сначала даже не ясно было, что они хотели выведать, но, по‑видимому, их интересовала судьба некоторых кораблей эскадры, которых не могли досчитаться. Среди них: «Анадырь», «Терек» и «Кубань». Но допросы ни к чему не приводили, так как никто из офицеров об этих кораблях ничего не знал, но японцы не хотели этому верить и все продолжали допытываться.
Обычно начиналось со взаимных любезностей: офицер и переводчик некоторое время усиленно кланялись, шипели и прискакивали, даже иногда предлагали чашечку с горячей водой, затем наступала церемония рассаживания и только тогда приступали к делу. Получая на все отрицательные ответы или лаконичные заверения, что нас в такие вопросы не посвящали, офицер начинал терять терпение и выражал неудовлетворение, а переводчик, не желая переводить обидных выражений, путался на ломаном русском языке, и выходило замешательство.
Эта комическая сцена невольно возбуждала улыбку, и тогда выведенный из терпения офицер вставал и, забыв все тонкости японского этикета, уходил. Как‑то мы узнали через переводчика, что в бараке на другом конце двора поместили офицеров со сдавшихся кораблей, которых японцы держали отдельно от других пленных. Один из наших офицеров проник туда, чтобы узнать подробности сдачи, и нашел всех в угнетенном состоянии.
Главным образом доказывали свою правоту чины штаба адмирала Небогатова, и все сводилось к тому, что адмирал пожертвовал собою ради спасения жизни полутора тысяч человек, и они считали, что с его стороны это было большим геройством. Но оправдывался только штаб, простые офицеры кораблей тяжело переживали сдачу и ничего не объясняли: «Поступили так, как было приказано, вот и все». При этом мы узнали и еще неприятную новость о сдаче миноносца «Бедовый» с тяжело раненным адмиралом Рожественским. Какая печальная история! В общем, мы жалели всех; только двое‑трое высших чинов производили неприятное впечатление и вызывали чувство раздражения.
Отсутствие в бараке самых примитивных удобств и фактическое содержание под арестом делало жизнь неприятной и однообразной. Еда была вполне сносной: нам почти ежедневно к обеду давали по половине большого лангуста. Любители пошутить говорили, что, очевидно, после Цусимского боя их столько наплодилось, что теперь это самый дешевый продукт для кормежки.
Наконец нам сообщили, что на следующий день отвезут на карантинный пункт, на остров Хирошима, продержат несколько дней и после этого отправят в постоянное местожительство до конца плена. Переход до карантинного пункта мы совершили на пароходе и уже без команды, с которой больше в Японии не встречались. На острове Хирошима было настроено много досчатых бараков, довольно чисто содержимых. Там имелись лазарет, баня и дезинфекционные камеры. Нас немедленно направили в бани, привили оспу и осмотрели и продезинфецировали все вещи. Потом пришлось еще около недели находиться на испытании.
Одновременно с нами в карантине были офицеры с других кораблей эскадры. Всем разрешалось ходить из одного барака в другой, так что удалось со многими повидаться и обменяться впечатлениями. Но офицеры со сдавшихся кораблей как‑то чуждались нас. Как ни казались они виноватыми, тем не менее нельзя не признавать, что гораздо большая вина лежит не на них, а на тех, кто послал такие корабли в бой, на тех, кто, сидя в Петербурге «под шпицем», с легким сердцем гнали небоеспособные остатки русского флота на войну, вопреки донесениям самого командующего эскадрой, категорически заявляющего, что ему не нужны такие суда.
Не верили адмиралу Рожественскому и сами не могли разобраться, и все же решились послать отряд адмирала Небогатова да еще потребовать, чтобы без него в бой не шли. Ведь в конце концов посылали только для того, чтобы она красиво погибла, проявив чудеса бесполезной храбрости, а не одержать победу. Когда же произошла катастрофа и одна лучшая часть эскадры, действительно показав чудеса храбрости, погибла, а другая этой доблести проявить не сумела и, малодушно спасая свою жизнь, сдалась, то только она и оказалась козлом отпущения. Теперь, казалось, все забыли, что представляли в боевом отношении «Николай», «Сенявин» и «Апраксин», и только твердили, что они опозорили Россию и русский флот. Да, опозорили, но в этом прежде всего виноваты те, кто поставил их в положение, приведшее к позору.
Уже тогда нам было ясно, что Цусимская катастрофа не есть случайное явление, а результат упадка управления Морским ведомством. Давно известна истина, что флот, готовящийся долгие годы к войне, способен победоносно ее вести. Наспех же сформированные эскадры, которые только на пути к месту сражения начинают кое‑чему подучиваться, – верный путь к катастрофе и позору. Но чья вина, что корабли плавали в мирное время лишь три месяца в году, что эскадра сформировалась перед самым походом и даже не имела снарядов для практических стрельб? Экономия хорошая вещь, но не тогда, когда она идет в ущерб боеспособности флота…
Доблесть, проявленная большинством русских моряков в этом историческом бою, вполне искупила ответственность, которая ложилась за неудачу на личный состав эскадры. Эта доблесть была результатом героического духа и традиций. Они выработались на российском флоте за 200 лет его существования и прошли через длинный ряд войн. Не будь этого старого духа, русские моряки, посаженные на несовершенные и устарелые корабли, не сумели бы оказаться на высоте. Нелегко дался им их героизм! Мало того, что наши суда имели более слабое вооружение и защиту, но и наши снаряды никуда не годились.
Увлечение центральных военно‑морских учреждений бронебойностью привело к тому, что снаряды попадали в цель, броню пронизывали, не разрываясь, или рвались на несколько крупных частей, принося малый вред корпусу судна и не задевая людей. Напротив, неприятельские снаряды разрывались от одного соприкосновения с легким препятствием и, благодаря своей чувствительности и «начинке» сильным взрывчатым веществом, разлетались на тысячи мельчайших осколков. Эти осколки ранили огромное число людей, вызывали пожары и решетили все препятствия.
Мы и стреляли хуже, чем японцы, но ведь это и неудивительно, так как они имели огромную практику. И все же, имей наша эскадра такие же хорошие снаряды, японцы пострадали бы во много раз больше. И как знать, какое бы это имело значение для нас! Понятно, что при таких условиях личному составу приходилось чрезвычайно трудно. Конечно, мы, как военные, должны были выполнить долг до конца, при всяких условиях (и надо сказать, на три четверти это и сделали), но и государство должно было обеспечить своих бойцов необходимыми и современными средствами войны, а этого, к несчастью, не было. И, однако, сколько геройства, сколько необыкновенно красивых подвигов сохранилось в воспоминаниях об этой катастрофе!
Что пришлось пережить экипажам 1‑го и 2‑го броненосных отрядов, трудно поддается описанию. Они представляли страшную, горящую, исковерканную железную массу, осыпаемую снарядами и обреченную на явную гибель, продолжали отстреливаться до последнего из последних орудий. Что доказывают эти беспорядочные предсмертные выстрелы людей, стоящих у края ужасной могилы, но думающих не о своем спасении, а о родине, как не величие и крепость их духа! Разве героизм этих русских моряков не затмевает злополучной сдачи нескольких жалких, отживших свой век кораблей? Никогда бы, конечно, не было позорной их сдачи, если бы они были не «самотопами», а настоящими боевыми судами.