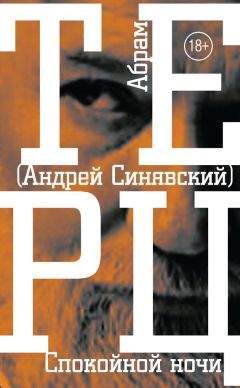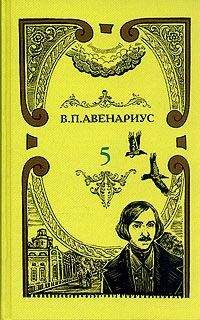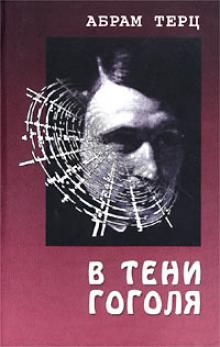Абрам Терц - В тени Гоголя
Говоря о прозе, в особенности о прозе Гоголя, нужно помнить, что в начале художественного слова была не проза, а поэзия, которая потом уже перешла на прозу. Проза — разновидность поэзии и представляет собою опускание поэзии на иные пласты сознания и языка, и в этом смысле, действительно, существует где-то между обыденной и поэтической речью. В этом смысле, действительно, поэты либо пишут стихами, либо изъясняются попросту, прозою (поздравляю вас, г-н Журден!), с тем, однако, существенным прибавлением, что эта нестихотворная речь помнит о своем высоком происхождении, пускай ее родство выражается в резком обособлении от собственно поэтических форм с помощью разговорных источников. Будучи поэзией (в душе), проза хочет быть нарочито приземленной, естественной, побуждая профанов говорить и писать односложным языком, хотя ее простоватые манеры сплошь и рядом на поверку оказываются лишь уловкой поэзии, по разнообразным причинам имитирующей беспомощность. Будучи поэзией, проза намеренно тяготеет к непоэтической речи, ибо знает, что только так, не подавая виду, может она соперничать с прекрасной матерью. Проза прикидывается прозою, Золушкою, падчерицей, понимая, что в этом униженном и независимом образе, в скромном опускании глаз долу, ей способнее добиться равных с поэзией прав и вернуться в родной дом с черного хода. Но задень ее, оскорби, или, как Гоголю, поставь ей рогатки в виде косноязычия, и она проявит неутихающую в ней ревность и прыть и покажет профанам, какая она проза!..
Пушкину было хорошо. Пушкин чуть ли не с колыбели лепетал стихами. Он обрел в них самую свободную и широкую форму слововыражения, так что, кажется, поэзия была его природным языком, более естественным, нежели разговорная речь, одолевающим любые барьеры своей рифмованной скороговоркой и без труда находящим ловкий ответ на все запросы души и жизни.
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль, какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю…
Но прозаик знает, что делает, когда тянет, и мямлит, и разводит турусы на колесах, прежде чем доберется до предмета, о котором намеревался поведать. Ему нужно войти в речь, заведомо беспомощную, затрудненную и замедленную, и хлопочет он в первую голову об этом — о том, чтобы создать представление о языке, на котором он собирается что-то рассказывать. Прозаик не владеет языком от начала, как поэт с его божественным лепетом, ниспосланным свыше, от рождения, и берущим, если нужно, быка за рога. Прозаику надобно осмотреться, откашляться, разговориться, то есть сотворить язык, прежде чем жить. Для этого, между прочим, он в помощь себе подключает нередко второго рассказчика, желательно старика, знающего о чем рассказать и осмеливающегося это делать замедленно, не спеша, с неуместными уснащениями и отклонениями от сути рассказа. Сам Пушкин, перейдя на прозу, был вынужден подчас прибегать к содействию подставного лица, с тем чтобы привить своей речи ощущение прозы. Так же поступал Лермонтов. Хотя, повторяю, им было легче писать безыскусно и просто, имея в резерве поэзию со всеми ее красотами, по контрасту с которой их нестихотворная речь рождалась как бы в процессе сознательного ограничения речи. Им было от чего отступать и отталкиваться, по отношению к чему определяться в новом, прозаическом качестве, не боясь раствориться в обыденном говорении, как это сплошь получается у бесхитростных беллетристов. Будучи от природы стихотворцами, они в прозе переходили, в сущности, на чуждый им язык, который сразу осознавал себя необыденно резко и выделению. «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы… Стихи другое дело…» — мог позволить себе отмежеваться от собственной роскоши и поэтического многословия Пушкин. На фоне его стихов, не знавших узды, живущих на вольном воздухе, проза отстаивала свою независимость путем обуздания, дисциплины, стоического отказа от накопленных за ее спиною богатств. Ей достаточно было сделаться краткой и точной, чтобы почувствовать себя прозой. Легко, имея в запасе божественный глагол, позволить себе в виде исключения временно побыть человеком. Проза здесь процветала уже за счет намерения писать не стихами, а просто и голо, питаясь негативными признаками, скрадывая форму, звуча почти неслышно, как бы и не существуя физически, сливаясь с ходом событий, о которых рассказывалось почти обыденным тоном. По поводу «Капитанской дочки» Гоголь с завистью говорил, что перед ее безыскусственностью сама действительность кажется искусственной и карикатурной. Но мог ли он сам пойти на такое исчезновение речи?..
Гоголю было труднее. Гоголю, чтобы что-то построить на пустом месте, скрыв в то же время природное свое заикание, понадобилось означить свой путь куда более резкими акцентами и смещениями в языке, сотворив необыкновенную, утрированную прозу. Провинциальный повествователь (старик), едва мелькнувший в сереньком обличии Белкина, в неказистом виде Максима Максимыча, вылез у Гоголя на авансцену в шутовском наряде и гриме старого дурака-пасечника, напялившего для начала речевую маску рассказчика, не умеющего рассказывать. Уж если вы хотите, чтобы в художественной прозе обо всем говорилось, как в жизни, то вот, извольте, послушайте, как не умеют говорить по-литературному, да и просто по-русски, на хуторе близ Диканьки, как не могут связать двух слов, не помянув чорта, свата и брата или не увязнув в пришедших на ум, невообразимых путрях и пундиках. Речь Гоголя откровенно безграмотна, глумлива и юродлива. Она с ходу дает понятие о прозе, пережимая простоту в непристойную для тогдашнего уха грубость, мало что мужицкой, еще какой-то диалектной, хохляцкой закваски, прозаическую постепенность и ровность повествования — в неспособность сдвинуться с места, непринужденную живость рассказа — в словесную клоунаду. Но это только один полюс гоголевской прозы, которая, размявшись и освоившись в родном навозе, следом за несуразно-сниженной присказкой спешит ошарашить читателя несуразно-высокопарной тирадой:
«Знаете ли вы украинскую ночь?.. о вы не знаете украинской ночи!..»
Знаете, на кого он намекает, с кем состязается? — с самим Пушкиным, написавшим бессмертные строки: «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут…» Едва оттанцевав гопак, отпыхтевшись и отсморкавшись, проза Гоголя смеет покуситься на роль и язык поэзии, забыв стыд и скромность, забросив краткость и точность, не боясь, что ее обвинят в вычурности и ходульности, в отсутствии вкуса и слуха, так же как в непобедимом влечении ко всему грязному и вульгарному…
На характер и осуществление гоголевской прозы чрезвычайное влияние имело то обстоятельство, что создатель ее ощущал себя не прозаиком, а поэтом. Это сказалось не только на щедрых вкраплениях в его речь элементов поэтической формы, но, что неизмеримо важнее, на собственном формировании прозы, прозы как таковой, осознавшей свое достоинство, свои владения, свою поступь и стать, как доселе она этого не решалась делать. Гоголь оставался поэтом в самых прозаических особенностях своей прозы. Чтобы соперничать с царями, нужно чувствовать себя прирожденным венценосцем. Чтобы возвести прозу в степень поэзии, на уровень высокого искусства, громадной и суверенной державы, как это совершил Гоголь, открыв эпоху прозы в российской словесности, требовалось быть поэтом. Другие, вышедшие из его «Шинели», могли считать себя кем угодно, хоть «натуральною школой». У Гоголя, родоначальника, не было иного исхода, как в деле сочинения прозаических повестей и рассказов причислить себя к лику поэтов.
Существенно, какое место в его мыслях занимал Пушкин, притом Пушкин-поэт, у которого Гоголь заимствовал строчки и сюжеты, которого боготворил, чью благословляющую руку сам же на себя возлагал, несколько преувеличивая размеры своей близости с Пушкиным. Но ему нужно было с Пушкиным быть на дружеской ноге, чтобы от него, от величайшего из поэтов России, вести свой счет, свою генеалогию — прозы. Иные мыслимые параллели с Гомером, Данте, Шекспиром, Ариосто, Жуковским — также утверждали Гоголя в этом избранном звании. Вероятно, и в пророки он попал под конец не без того, что где-то в самом начале уже был поэтом.
«Что нам до того, производят ли влиянье слова наши, слушают ли нас! писал он Жуковскому за несколько лет до кончины, в состоянии уже полной творческой беспомощности. — Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно песнь даже и в ту минуту, когда бы валился мир и всё земное разрушалось. Умереть с пеньем на устах — едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках» (15 июня 1848 г. Полтава).
В поэтическом самосознании Гоголя-прозаика немаловажное значение имел, вероятно, и тот факт, что начинал он свою писательскую карьеру как неудавшийся поэт В. Алов стихотворной «идиллией в картинах» — «Ганц Кюхельгартен». Об этом злополучном создании, достойном всяческого осмеяния, можно было бы не поминать, если бы в нем уже не присутствовали в намеке некоторые тенденции его позднейшего стиля, соединявшего возвышенные образы и мысли с откровенным просторечием. Что так поражает и восхищает нас в прозе Гоголя, в его стихе представлено, как в кривом зеркале, в чем повинны, по-видимому, не только дурные стихи, но сама невозможность соединить в пределах поэтической речи те контрасты и стилевые смешения, которые в иной пропорции и дислокации прекрасно размещаются в его прозаических текстах. Как в конце творческого пути Гоголя гладкая проза второго тома «Мертвых Душ» оказалась катализатором его неумения писать складно и грамотно, так и в гладком стихе «Ганца Кюхельгартена», которым молодой автор к тому же плохо владеет, всякая шероховатость слога, всякий лексический сдвиг глядит грубейшей ошибкой, заставляя подозревать дебютанта в незнании языка и грамматики. Между тем перед нами наброски будущих великолепных картин (например, в «Страшной Мести»), сделанные стихотворным языком и поэтому звучавшие комически: