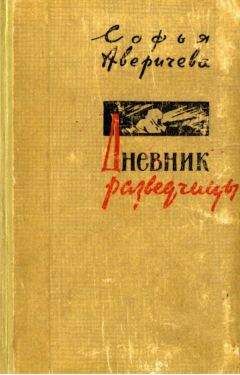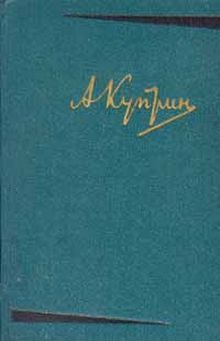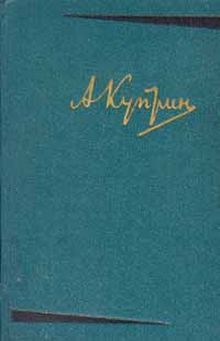Софья Федорченко - Народ на войне
А кто и так: вот день, вот ночь — война и война, и краю ей не видать. От последнего устатку в леса.
Все терпел, раны всякие, страх. А то раз вскинулся я под звездами и до того удивился как бы, что спокойно. С тех пор ушел я.
Я и при царе по куткам ховался, не дал шкуры своей. Нет тяжеле дезертирского житья. Я войну до последнего ненавижу. Я рад бы на свое дело силу тратить, да не на войне. А теперь только война и живет.
«Дезертир»,— говорим. «Ан нет,— отвечает,— дезертир сбёг — бабу на печи кутает, а мы не то что бабы, а и печи, почитай, год не видали. От крови далеко, живем во зеленых лесах, и есть мы зеленые».
Думал я, думал: нигде тихого угла не видать. Бушует земля. Что люди, что дела — движутся. И ушел я в леса тишины искать. А в лесах нас-то, тихих,— полк. Так и жили, зеленя поганили.
Эти святые! До того воевать не любят, хучь белый стреляет, хучь красный — бегут святые во места лесные, ажно портки сеют. Зато как выстрелов не слыхать — оберут место до последней корочки, баб угонят и в скитах своих зеленых миролюбием хвалятся.
Зеленое — мирный цвет, без кровинки. А тут и красных и белых — кажного на зелень потянуло. Мобилизации — почем зря. А зеленые до того войны боялись — бесперечь им воевать пришлося. И грабить молодцы стали.
Наши зеленые — те ничего. Пограбят от нужды, всякому впору. И различки не делают, кто красный, кто белый, кто еврей,— абы хлебушка. Те же зеленые геройствовать взяли моду. Налетом налетят, не то что хлеба, а всё берут, более всего — вина и вещи дорогие. Для ужаса евреев перебьют, как бы за коммуну.
Двоякие зеленые есть. Бедные и богатые. У бедных в лесу подземный текучий куренек, хлеба корки немае, табачковым делом навоз заимается, на собственных ломотных костях спят, родною вонью греются. А есть богатые зеленые. Ковры у них и золото, сигары и вина разные, кони и даже машины. А коло них, на золотце, злыдни из простых людей снабжением ведают и как бы вестовыми служат.
Пой, товарищ дезертир, соловьем. Дерьма зеленым не подкрасишь — воняет. Мы за весь народ воюем да зверствуем, а ты за мягкую постель обиделся.
Не мог я русской крови видеть, не принимал, что ли. И все мне разъясняли,— голова знает, а сердце неймет. Вот я и ушел в лес. А там и того хуже. Скажу — воры просто, для ради себя и шкуры берегут.
А я в лес ушел обдумавши. Месяц-два — кончится война, я целым выйду. А с мертвого калеки какая кому прибыль?..
Кто так, а я прямо скажу: страхом хворать стал. Вот и убег в зеленые. Хорошего мало.
Припал я к сену, сапогов не сымая, на лету. Как торкнулся — подо мною в сене человек. Я и гукнуть не поспел, как шепот его слышу. «Не кличь,— шепчет,— братишка, я зеленый, не бандит. Невинный я, здесь за провиантом был да за девичьей лаской в лес не поспел».
Аэроплан над лесом. Как сыпанет листками, а грамотного — ни одного. Кто нас кличет, друг ли, враг ли, а из лесу выбираться надо.
К нам аэропланы не летают, им в лесу не станция. Пролетит, бывает, над лесом, бросит бомбу или листовок каких — и дальше. А раз головку сыру сбросили, верно нечаянно.
Я мечтал в летчики податься. Да разве из лесу полетишь, если ты не птица? На ангельских крыльях и то нельзя, потому что черти мы зеленые, а не ангелы. Где уж нам летать.
Девки нас любили. Чего может — наготовит, да и жить с нами не отказывались. Хоть и лесные, а знает девка — и сегодня ты с ней, и завтра до ней. А военный — сегодня здесь, завтра бог- весть. Лесные покойнее.
Меня бабы за то жалели, что ласковый, что крови не любил. Просто под подолом спрячут, как какая-нито часть в селе.
У нас в лесу и бабы жили. Кто к мужу, кто к хахалю, а кто и от войны отдыхает.
У нас старая баба проповедовала: как война не нужна, да как грех, да как в лесу спасаться. Кто и слушал. А я часу ждал.
Святые угодники и те для людей терпели. Вот и мы так. Кто битвой, кто молитвой, абы людям легче бы стало.
Шла часть ровно и верно, шла местами лесными, середь речек да болот. И стали что ни день люди пропадать, между кочек залегать, на вольные леса заглядевшись.
Вылазьте, братики, с-под кустиков, войной миру добывать.
XX. ШПИОНЫ
Теперь враг такой пройдошный, ружья противу него мало, вот и шпион первый человек.
У нас за деньги не ходят: первое — свое это, кровное; второе — денег у нас нету. Какие из нас шпионы, это у них.
У нас шпион самый верный должен быть, чтоб не за деньги, а сердцем на врага доводил. А разве шпион может так?
В шпионы же не гожусь. На врага сам глаз грозится, не скроешь. Ни сердца, ни слова, ни руки не удержу.
Старший — воин, а младший в шпионах служил очень хорошо. Его вперед зашлют; нежный такой был, до него особенно дамы привыкали, вроде как бы юнкер. До самого семени через дам вызнает, а тут и мы подойдем.
Приходит до нас весточка — служит у врагов на важном месте. Продал, думаем, продал. Продал, да не нас! Как вошли, все нам показал, как и где.
Я в шпионах аж четыре раза был, очень это интересно. Раз присыпался я до кухарочки одной, хозяева вышли, я к барину в стол. Там бумаги стога, хоть вилами действуй. Грамоте не очень знал я, однако понял, что здорово в точку попал, как пошли мои хозяева шептаться и белеть.
Служила она у них при бумагах, от многого нас уберегла. До того нам нравилось, что не боится для нас в шпионах служить. А кабы мужчина, так служи, псина, а в горницу не суйся.
Я б на раз только шпиона пускал. Добыл пользы — ступай. Как-то веры нет.
Кто за деньги, тому веры нет, того купил ты, купит и враг. Того на раз, а потом в зад коленом.
Что скажу про шпионство. Страх один, нету вреднее. Иной, как маманя, теплом греет, а в нужный часок со теплых грудей под муки, под топор.
Нам брезги не разводить. Одно спросишь — на пользу? А как на пользу, так хоть в коросте, не гони.
Мирные шпионов очень боятся. Сами себе веры не дают, вот и сдается глаз со всех сторон.
Парнишка приветливый, гнучкой такой, гавкнешь — смеется, ткнешь — не примечает; не нравится мне. Ночкой прелестной прокинулся я в куреньке с плохой пищи, вышел. Вижу скрозь звезды: ползет парнишка хорем, дырку в земле царап-царап да и в курень. Я в ту норушку, а там и то и это, и у того места, и какая у командировой кобылы масть на хвосте, и число, и знак на нужной бумажке.
С первого дня стала к нему жена ходить. Мы ничего, закуток им отвели, любитеся. А один паренек, гнилой у него глаз был, раз к щелке и приникни. Только замест сласти видит он суровые лица и бумаги попаркивают. Ох и было ж им, чтобы сладостей на шпионство не меняли.
Одна женщина взялася ему зубы лечить. Сама лечит, сама спрашивает. А он морду выкривил «А может, вы в шпионах служите?» — говорит. Так потом, бывало, с леченья всякого добра нанесет, до того она его боялась.
Сумерки густые, как дым. Смотрю: ползет по-за кустом, крадется. И на самом на близком к окну местечке приник. Тут я и подполз, за ворот. Он меня зубами. Любопытный оказался.
Молоденький мальчик и очень чистенький. Всегда газеты читал, разговаривал. И все коло бумаг, все коло бумаг он. Потом и перепорхнул врагу на руку — канареечкой. Счастье наше, что не в бумаге у нас теперь сила. Одно пишем, другое делаем.
XXI. УЧЕНЬЕ И УЧЕНЫЕ
Написано на роду —
Быть на быстром нам ходу.
А кто носом в книжицу,
Тот с войной не движется
Эх, кабы сто лет нашему житью! А то ведь такого житья и до сорока не догонишь,— воюй и воюй, ни тебе минутки на обдумку.
Вот теперь навязалась на нас болячка эта — учеба. Да дай ты мне отвоеваться как след, всю желчь отвоевать. Прилипли мои ручки до амуниции, не держат пера.
Дрожит во мне каждая жилка, только что винтовка с плеча, а он меня в книжку носом.
Теперь у нас что ни шаг, то учитель. А шагает народ и шагает, на ходу лучше университета обучается.
Шутка ли: голы, наги, безо всякой науки свою волю добыли, да еще и во вражьи руки воли не отдаем.
Не перечь ты нам выдумками. Разве ж можно нас теперь наукам учить, если мы еще в самом бучиле пузыри пускаем? Дай хоть на берег выплыть.
Теперь войну кончим, много в наших руках добра будет. Этому особо учиться надо, как добро между пальцев не пропустить.
Вот не знаю, сдюжею ли я, такой измордованный, настоящую науку принять? А до того охота! Кабы дорваться, знал бы, за что и войну отвоевал.
Думка одна, что упрусь после войны в самую науку, в мирное, для всех интересное.