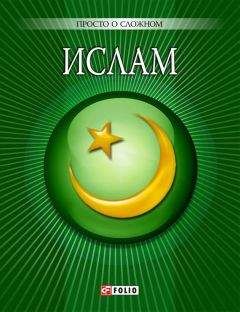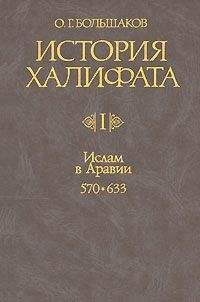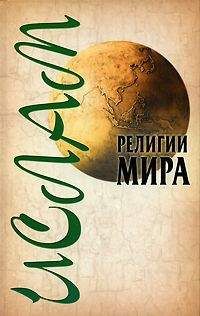Герман Гессе - Магия книги
(1945)
БУДНИ ЛИТЕРАТОРА
В жизни того, кто уединился и обосновался вдали от города и общества, известную роль играет почта. Ибо, как бы ты ни любил и ни добивался одиночества и сосредоточения, жизнь не дает себя перехитрить, и люди, чьих визитов и притязаний ты бы избегал, каждое утро заявляются к тебе в образе писем, внося в твой дом, в твою атмосферу — чтобы она не оказалась слишком разряженной — не только частичку будней и трудов, но и частичку жизни и действительности. Однако теперь, в тревожных сумерках исхода войны, какой удивительно маленькой и случайной стала моя корреспонденция! Именно сейчас, когда она так нужна, от нее почти ничего не осталось, именно сейчас, когда так тоскуешь по многим друзьям, так переживаешь за многочисленных близких людей, приток действительности, известий, человеческих страстей, когда-то докучливо бодрый, почти полностью иссяк. Жив ли еще мой вернейший друг и издатель[73], который за свои убеждения и верность ко мне так жестоко пострадал в застенках гестапо, думает ли он о восстановлении моих поредевших и уничтоженных книг, живы ли еще люди, последней весточкой о которых было то, что много месяцев назад вместе со многими тысячами других их угнали из Терезина[74] «без места назначения», или что сталось с моим другом и родственником Ферромонте, органистом, чембалистом и музыковедом, на войне рядовым медико-санитарной службы при огромном лазарете в Польше, — ответа на эти и сотни других тревожных и гнетущих вопросов жду я изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Год назад я не смог бы себе и представить, что так откровенно и озабоченно буду ждать писем из Германии, все еще обезображенных погаными гитлеровскими марками и штемпелями цензуры.
Хотя жизнь продолжается, бравая почта все еще не оживилась по-настоящему; и вместо важных и вожделенных писем приходят неважные и нежданные, но порой и у них имеется свое небольшое значение, порой и они наводят на размышления.
Так, например, вчера, помимо прочего, утренняя почта доставила мне три письма, хоть и не важные, но, как ни смотри, все же весточки из реальности, всемирной повседневности, — и они нас чуть позабавили и рассмешили.
На первое письмо, довольно пухлое, я покосился с недоверием, ибо так выглядело большинство писем, в коих молодые и пожилые коллеги присылали мне свои произведения, чтобы я их почитал, оценил, и попытался найти для них издателя. Но, вскрыв его, я оказался посрамлен, там была не рукопись, а хорошо мне известная книжечка, избранное моих стихотворений, вышедшее в издательстве «Инзель»[75]. Внимание автора письма, купившего ее в букинистическом магазине, она обратила на себя тем, что форзац содержал не только посвящение, но и небольшую живопись моей рукой — овальный венок из цветов. Когда-то я нарисовал его для человека, которому хотел доставить особое удовольствие, а тот, выходит, снес книжечку с венком букинисту, ее купил чужой человек, и теперь вот этот чужой переслал ее мне, чтобы я подтвердил, что маленькое изображение действительно сделано мною. Никуда не денешься, придется произвести опознание и дать новому владельцу желанную справку.
Пока я писал несколько строк, чтобы поскорей развязаться с этим делом, в кабинет вошел гостивший тогда у меня мой друг — живописец, которому я каждое утро немного позировал. Мы поздоровались, и, пока устанавливал он мольберт, надевал блузу и фартук, просматривал палитру, из-под кучки корреспонденции я вытащил самое большое послание — плоский, негнущийся пакетик в четвертую долю листа. Он выглядел так, словно в нем был рисунок или масло на картоне, подарок или, например, присланная каким-нибудь знакомым художником вещь для обмена, что было бы очень кстати, ибо в медитацию во время позирования мне хотелось включить представление поприятней, чем любовно нарисованный мною, но отверженный и проданный старьевщику цветочный венок, который хотя и стал мне уже, в сущности, безразличен, все-таки, как я заметил, вызвал чувство обиды. Итак, я поспешил открыть пакет ин-кварто, присланный неизвестным человеком. Если это, как мне казалось, как смел я надеяться, живопись, рисунок, гравюра или литография какого-нибудь молодого художника, то сим отрадным предметом я воспользуюсь для своих размышлений и, возможно, для беседы во время предстоящего позирования. Но в пакете оказалось не то, что я думал, а папка из толстого картона, содержащая четвертной лист белой бумаги, сложенный вдвое, то есть тетрадку в четыре страницы, и впридачу — письмо незнакомца, в любезнейших выражениях просившего меня переслать ему эту бумагу, заполнив ее следующим образом: на первых двух страницах своей рукой написать специально для этого сочиненную краткую автобиографию, на следующую страницу наклеить собственную фотографию, а на последней начертать посвящение для получателя.
Какая странная почта! Ошеломленный этой на редкость наивной или на редкость вызывающей просьбой, и письмо и папку я показал своему другу, только что усевшемуся за мольберт. Он удивился, потом же, приглядевшись к папке, рассмеялся и сказал; «Это та же папка, что побывала и у меня, с таким же письмом, требовавшим от меня рисунка или живописи, фотографии и посвящения. Думаю, что он не простак, а пройдошистый коллекционер, не исключено, что подделаны и неуклюжий стиль и орфографические ошибки».
Теперь я понял, что надо сделать с этой папкой. Мы рассмеялись, и сеанс начался. Художник героически сражался с кознями модели, а я, расслабившись, предался размышлениям, которые в полуденной жаре июля чуть не окунули меня в дрему.
Потом следовало просмотреть остаток утренней почты. Напоследок меня ожидал всего лишь один сюрприз. Господин из близлежащего города на хорошем итальянском любезно просил незамедлительно позвонить ему и договориться о встрече по поводу дела большой литературной важности. Опять, ну что на этот раз? Наверно, его чадо — сын или дочь — сочиняет, и по школьным стихам я должен оценить сей юный талант. Но то, что за этим он обращается к иноязычному писателю, все-таки странно.
Телефоном в нашем доме ведает жена, и я передал письмо ей. Она позвонила автору письма; и трубку там взяла тоже женщина. Услыхав нашу фамилию, она тут же, нетерпеливо спросила, когда я смогу приехать в город на предложенное свидание. Моя жена оказала мягкое сопротивление. Объяснила даме, что я пожилой человек, уже не такой подвижный, к тому же речь, видимо, о каком-то недоразумении, пусть дама будет так любезна и расскажет, в чем, собственно, дело. О, воскликнула собеседница, какое недоразумение! Она навела справки, знает, кто я, знает, что я известный писатель и хорошо делаю свое дело. А ее нужда не такая обыденная, чтобы говорить о ней по телефону. Но моя жена была тверда и повторила свою просьбу. Немного подумав, та ответила приглушенным и возбужденным голосом: «Да, я могу вам сказать, о чем речь. Речь идет о романе».
На что моя жена ответила: «А, о романе? Кто-то написал роман, и вы бы хотели, чтобы мой муж его прочитал?»
Возражение: «Нет, вовсе нет. Синьор должен не читать роман, а написать его. У нас в доме случились события, которые могли бы стать материалом для хорошего романа; мы негласно осведомились в разных местах, и для написания романа выбрали вашего мужа. Итак, когда мне рассчитывать на визит вашего мужа?»
Она была очень удивлена и разочарована, когда жена ей сказала: «Синьор действительно пишет романы, но только выдуманные им самим, и он ни за что не станет писать другое. Примите наши извинения».
Так вот на старости лет довелось мне узнать, что писатель, оказывается, необходимая институция и в гуще добропорядочной бюргерской жизни, что есть ситуации, в которых его зовут и остро в нем нуждаются, ситуации, которые нельзя сообщить по телефону, но которые властно требуют литературы и литератора, как есть ситуации, требующие врача, полицию или адвоката. И пусть урожай моей нынешней утренней почты богатым не назовешь, однозначным минусом он все-таки не был. Чувство примирения едва не побудило меня вернуть коллекционеру его папку хотя бы незаполненную. Однако, подумав, я этого все же не сделал.
(1945)
ПОСЛАНИЕ АВТОРА КОРРЕКТОРУ
Октябрь 1946 г.
Многоуважаемый дорогой господин корректор!
Так как мы вновь во власти друг друга и должны работать совместно, то, возможно, мне будет не вредно отвлечься на час от нескончаемых мелких поправок, нотаций, попыток учить уму-разуму, коими обычно мы мучим друг друга, и постараться высказать нечто принципиальное о моей и Вашей работе, то есть о том, в чем для меня ее смысл, в чем ее функция в целом для народа, языка и культуры. Вы знаете, что тем самым хочу я только добра, с чем Вы должны согласиться, даже если не разделяете моих взглядов. Со своей стороны я предполагаю и, мне кажется — с полным правом, что мое мнение Вам интересно, что Вы так же увлечены нашей общей работой, так же ощущаете ответственность и значение Вашего дела, ибо кто бы из нас мог продолжать заниматься своим трудом, сохранять верность ему, принося ему жертвы, и в обмен испытывать радость, если бы вновь и вновь не желал еще глубже усвоить смысл этой профессии и воспрепятствовать ее вырождению в окостеневшую систему механических приемов. Ведь в эпоху техники, всеобщей переоценки денег и рабочего времени каждой профессии и каждому работающему человеку, даже самому нравственному, непрерывно угрожает опасность стать бездушной деталью машины и превратить свой индивидуально ответственный труд в конвеерный и схематичный. Именно из сопротивления, оказываемого Вами порой моим мнениям и представлениям, я могу заключить, насколько серьезно относитесь Вы к Вашей работе. Не будь я в этом так убежден, то безусловно не стал бы себя утруждать объяснением, которое, как я уже вижу по вступительным фразам, сформулировать не так уж и просто, как мне перед этим казалось, и чем дальше, тем больше это выглядит трудным и щекотливым.