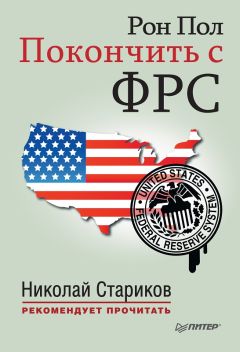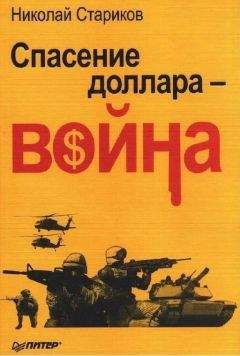Олдос Хаксли - Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
Место Валленштейна занял Галлас, при номинальном командовании короля Венгерского, сына и наследника Фердинанда. Имперские войска отбили Регенсбург и осадили Аугсбург, в 1632 году захваченный Густавом. На следующий год город сдался, от голода и болезней потеряв четыре пятых населения. Летом 1634 года кардинал-инфант во главе пятнадцати тысяч отборных, закаленных в боях испанских солдат выступил из Италии, перешел Альпы и соединился со своим кузеном, королем Венгерским. Рубенс оставил нам прекрасное полотно, изображающее, как темноволосый король и блондин инфант почтительно приветствуют друг друга посреди своих войск и множества аллегорических орлов, лавровых венков, речных богов и Муз — а может быть, это главные добродетели? Как узнать? Все его жемчужно-телесные создания удивительно похожи одно на другое, и нигде нет даже родинки, чтобы отличить Пасифаю, скажем, от Умеренности, а Беллону — от Елены Фурман. Эта картина подтверждает одно обстоятельство, слишком часто упускаемое из виду историками «философского» направления, — что искусство может и не иметь к жизни никакого отношения и что изучение шедевров живописи, поэзии, музыки проливает лишь очень слабый свет на реальный характер той эпохи, в которую они созданы. Кто бы сумел из собрания итальянской живописи XV века вывести общество, описанное Маккиавели? Обычно произведение даже самого «верного натуре» художника изображает в лучшем случае то, чем его современники хотели быть, а не то, чем они действительно были. Такие художники, как, скажем, Рубенс или Корнель, исторически значимы не потому, что сообщают что-то о конкретных фактах и реальных людях своего времени, а потому, что их картины и драмы ярко иллюстрируют боваристские[71] мечтания, владевшие душой XVII века, — мечту о сверхчеловеческой пышности и мечту о сверхчеловеческом благородстве, стремление к большей, чем персидская, роскоши в невозможном сочетании с большим, чем спартанский, героизмом.
На короткое время королю и кардиналу-инфанту почти удалось воплотить в реальность то великолепие, которым их наделили кисть и воображение Петера-Пауля. 6 сентября в Нордлингене они сошлись с главными шведскими силами под предводительством Бернгарда Саксен-Веймарского и разгромили их. Эгер покончил с мечтой Валленштейна о Германии, объединенной под военной диктатурой; Нордлинген покончил с мечтой Густава о великой протестантской Германской империи под верховенством Стокгольма. Парадоксальным образом, Нордлинген покончил и с мечтой Фердинанда о католической, контрреформаторской империи под властью Габсбургов. Слишком уж решительная победа Галласа привела к активному вмешательству французов; а оно, в свою очередь, привело к краху Испании и окончательному уходу Австрии из Западной и Северной Германии.
Для Франции несколько месяцев после Нордлингена прошли в подготовке солдат и вооружения к грандиозной кампании на нескольких фронтах — в Италии, Валтеллине, на Рейне, во Фландрии. Было набрано двести тысяч войска, в очередной раз повышены налоги, усилено выжимание соков из беднейших слоев. В своих голых, холодных покоях в Рюэле или в Кардинальском дворце отец Жозеф еще напряженней, чем обычно, трудился над проведением политики, которую становилось все труднее и труднее «уничтожать» в сознательно творимой воле Божьей. Особенно тяжким испытанием его не только мистических, но и казуистических способностей стал следующий план. Этот убежденный крестоносец теперь пытался, при посредничестве правителя Трансильвании, подписать с турками соглашение, по которому Турция, получив от Франции деньги, напала бы с суши на австрийских Габсбургов, а с помощью галерного флота — на Габсбургов испанских. И в собственных глазах и в глазах других щепетильных католиков отец Жозеф оправдывал этот замысел примерно теми же аргументами, какие приводил и в защиту союзов с протестантами. Небольшая доза Турции, утверждал он, послужит противоядием не только против габсбургского могущества, но и (довольно неожиданный ход) против могущества самой Турции. Каким же образом отец Жозеф рассчитывал совершить это чудо политической гомеопатии? Самый ясный ответ дан в словах Людовика XIII его духовнику, отцу Госсену. «Я бы хотел, чтобы турки оказались в Мадриде, — сказал король, резюмируя хитроумные проекты своего министра, — испанцам пришлось бы заключить со мной мир; и тогда вместе с испанцами мы бы ударили на турок». Это reductio ad absurdum[72] государственного макиавеллизма; Тенеброзо-Кавернозо поистине превзошел себя. К счастью не только для Габсбургов, но возможно, и для французов, турки уклонились от предложенного альянса.
Переговоры с правителем Трансильвании и, при его посредничестве, с Портой продолжались до самой смерти отца Жозефа и время от времени возобновлялись еще несколько лет после нее. Они так и не привели к конкретным результатам, когда Вестфальский мир сделал союз с турками ненужным, и весь план тихо сдали в архив.
В то время как Ришелье и отец Жозеф готовились объявить Австрии войну, император впервые всерьез попытался заключить мир. Покинув крайние контрреформаторские позиции, он пришел с Иоганном-Георгом Саксонским к компромиссу относительно Реституционного эдикта. Теперь и сам курфюрст и любой другой протестантский князь могли заключить с императором мир на основе возврата к status quo 1627 года. Мирный договор, в конце концов подписанный в Праге в середине мая 1635 года, закладывал прочную и, в общем, справедливую основу для всеобщего мира. К несчастью, за неделю до его подписания на Большой площади в Брюсселе появился французский герольд и с изысканными средневековыми церемониями возвестил, что Его Христианнейшее величество отныне находится в состоянии войны с Австрийским домом.
За день или два до объявления войны отец Жозеф писал Аво, что «Король желает как можно скорее заключить всеобщий мир с гарантиями на будущее — этот мир станет Золотым веком и, так сказать, новой эпохой Августа. Добиваться своей цели он намерен следующим образом: поддерживать действиями нескольких армий любые серьезные переговоры и мирные предложения». Иными словами, Людовик XIII будет вести войну затем, чтобы избавить мир от Габсбургов и подчинить Бурбонам, а сам при этом играть заглавную роль — не столько в драме (поскольку драмы динамичны, а отец Жозеф лелеял иллюзию, свойственную почти любому политику, об окончательном и прочном урегулировании), сколько в пышной и неподвижной tableau vivant[73] Августовского века.
И Ришелье, и отец Жозеф рассчитывали на быструю и решительную кампанию. Тщательно продуманный французский стратегический план одновременного наступления на нескольких фронтах (план, кстати сказать, беспрецедентный по своему размаху) предполагал сокрушить австро-испанское могущество одним ударом. Решающего успеха предстояло добиться за одну летнюю кампанию. К плачевному провалу плана привела комбинация нескольких причин — отсутствие боевой выучки у французских армий и высокая боеспособность испанской пехоты, которая по-прежнему (хотя ее полководцы вели войну в довольно старомодной манере) не имела равных в Европе; проблемы со снабжением широко разбросанных сил, вызванные негодностью имевшихся у Ришелье служб; наконец, хроническая нехватка денег. Кроме как в Валтеллине, запланированных успехов достичь нигде не удалось. Единственным ощутимым результатом кампании 1635 года стало доведение Эльзаса до состояния, едва ли не худшего, чем у Померании в 1630 году. Итогом регенсбургской политики отца Жозефа оказался голод, истребивший десятки тысяч людей, а тех, кто выжил, превративший в людоедов. Казненных преступников снимали с виселиц и пускали на мясо; скорбящим родственникам приходилось охранять свежие могилы от гнусных покушений охотников за трупами. После Нордлингена многие тысячи обозников из разбитых протестантских армий рыскали повсюду, словно огромные стада бабуинов, в поисках хоть чего-то съедобного. Они грабили и опустошали неохраняемые деревни; города покрупнее запирали от них ворота и высылали им навстречу солдат. Страсбург ворота не закрыл — тридцать тысяч уже не похожих на людей существ вошли в город и, истощив филантропические ресурсы горожан, принялись сотнями умирать на улицах. Тех, кто не успел умереть, солдаты, по решению отцов города, пиками, будто скотину, выгнали за городские стены. К этим обозникам надо прибавить и бесчисленные жертвы солдатских бесчинств — ограбленных до нитки крестьян, разоренных ремесленников, обнищавших лавочников и людей свободных профессий. Сколько-то времени они могли протянуть на падали и траве. Потом умирали; или же, наткнувшись на солдат все равно какой армии, бывали убиты — не ради имущества, которого у них не было; просто ради забавы. «Тот, у кого есть деньги, — писал современник, — солдатам враг. Того, у кого их нет, истязали именно потому, что их нет», — и еще потому, что от привычки к зверствам развивается и вкус к ним. В делах жестокости — как и в делах похоти, алчности, обжорства, властолюбия — l'appetit vient en mangeant[74]. Поэтому так важно во что бы то ни стало поддерживать иррациональную традицию цивилизованного поведения, общественный договор о минимальных приличиях. Уничтожьте их — и огромные массы людей, увидев, что у них в душе нет устоев, запрещающих им вести себя как звери, как звери себя поведут и не остановятся до тех пор, пока или физически друг друга не истребят, или не изнемогут от напряжения и риска звериной жизни, или же, по какой-то спасительной причине, не увидят глубоко у себя в душе родники сострадания, потенциальной доброты, таящиеся даже в худшем из людей, а у лучших бьющие сверхчеловеческим фонтаном святости. В 1635 году военный откат от цивилизованных норм дошел до предела, и в несколько последующих лет поведение армий стало еще более зверским, чем было в ту пору, когда Калло копил впечатления для «Miseres et Malheurs de la Guerre». Запасы имущества и продовольствия, в результате прежних набегов, сократились — соответственно, методы их добывания стали более варварскими; а чем дольше это варварство продолжалось, тем больше с обеих сторон появлялось людей, приобретших к нему вкус. Солдаты развлекались, постреливая в мирных прохожих; науськивая мастифов не на медведей или быков, а на людей; выясняя экспериментальным путем, сколько колотых ран и какой глубины может вынести человек; прикручивая людей к козлам и распиливая их пополам точно бревна. Вот такими оказались первые результаты вступления Ришелье в войну. На второй год кампании хорошо продуманные планы кардинала и капуцина привели к вторжению противника во Францию и почти что к взятию Парижа. Неудача экспедиции голландских союзников Ришелье в Бельгию и прибытие подкреплений из Германии позволили кардиналу-инфанту прорвать заслон на северо-западной границе Франции. Испанцы взяли Корби и Ла-Капелль, форсировали Сомму и дошли до самого Компьена. Слабоукрепленный и практически необороняемый (все французские войска дислоцировались или на границах или на чужой территории) Париж, казалось, уже был у испанцев в руках. Поднялась паника; а вместе со страхом пришла и ярость против его виновников. Вся ненависть к Ришелье, скопившаяся в народе за одиннадцать лет его правления, которое легло тяжелым бременем почти на каждого француза, вырвалась наружу. Ему припомнили и грабительские налоги, и его собственные баснословное богатство и бесстыжую роскошь. Ему припомнили и бессмысленную войну в Италии, упущенные мирные шансы, отказ утвердить Регенсбургский мир — а этот отказ общественное мнение объясняло не его реальной причиной, то есть не патриотической верой кардинала в войну как лучший путь к величию французской монархии, а его честолюбием, его желанием сделаться незаменимым, ввергнув страну в пучину войны, с которой только он мог управиться. Вот, он добился своей войны — и что теперь? Испанцы стоят в Компьене, а через несколько дней будут в Париже. Народ вспомнил, что случилось пять лет назад в Магдебурге, а вспомнив, возненавидел кардинала еще более пылкой ненавистью.