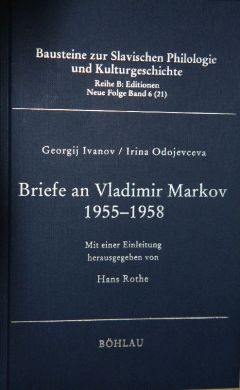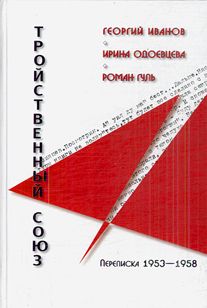Вадим Крейд - Георгий Иванов
Мысль об эмиграции явилась Г. Иванову как только он почувствовал возможность ее реализа-ции. Он уезжал вполне легально - "для составления репертуара государственных театров". Так официально определялась цель поездки. Местом назначения были указаны Берлин и Париж. О фиктивности командировки отчетливо знали обе стороны - и Иванов, и те, кто оформлял его документы. Поездка не оплачивалась, и это обстоятельство недвусмысленно подчеркивало, что само слово "командировка" было бюрократическим эвфемизмом, означающим эмиграцию. Точная дата отъезда неизвестна. В соответствии с воспоминаниями И. Одоевцевой, это случилось осенью. Последняя российская дата, которой мы располагаем,- "сентябрь". Этой датой (сентябрь 1922) помечено предисловие к "Письмам о русской поэзии". Первая берлинская дата - 11 октября 1922 г. - упоминается в альманахе Цеха поэтов, изданном при участии Г. Иванова по его прибытии в Берлин.
Год жизни в Берлине был для него временем переиздания ранее написанных книг, а также альманахов Цеха поэтов. Новых стихотворений, датируемых 1923 годом, известно немного. Однако берлинский вариант "Вереска" и "Садов" отличается от петербургских изданий. Это не просто перепечатка пользовавшихся успехом и разошедшихся книг, но вдумчивое их усовершен-ствование. В Берлине совместно с Оцупом и Адамовичем Георгий Иванов выпустил четвертый альманах Цеха. Помимо дюжины новых, ранее не печатавшихся стихотворений, Г. Иванов представил для этого альманаха статью "Почтовый ящик" - острую и остроумную реакцию на заметнейшие явления в современной литературе. По форме это как бы заметки для себя, жанр записной книжки, словно не принимающий в расчет условности законченного литературного произведения. "Почтовый ящик" - произведение независимого и наблюдательного ума, реакция поэта на современную поэзию. Здесь много любопытного - и вывод о том, что в зачумленной стране осталась "воля к литературе", и наблюдения над критикой двадцатых годов с ее безличием как главной характеристикой, и заметки о творчестве Пастернака, Цветаевой, Белого.
Осенью 1923 г., по словам современника, всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Многочисленные русские издательства закрывались одно за другим, русская писательская колония распалась, многие переселились во Францию. Уехал в Париж и Георгий Иванов.
* * *
В двадцатые годы он принимает участие в таких эмигрантских изданиях, как "Последние новости", "Звено", "Благонамеренный", "Современные записки" и др. В "Звене" печаталась серия его мемуарных очерков под общим названием "Китайские тени". К середине двадцатых годов в эмигрантской литературе мемуары обращали на себя внимание как один из преобладающих жанров. В "Звене" от 10 января 1926 г. один литературный критик писал: "В наше время в большом ходу мемуары. Это самый модный вид литературы". Одержимость воспоминаниями была психологически вполне объяснимым явлением. Эмиграция окончательно поняла, что советский режим установился надолго, что старая Россия отошла безвозвратно в прошлое. Топографически и, главное, хронологически расстояние между днем сегодняшним и старой погибшей Россией стало ровно таким, чтобы пересмотреть и осмыслить этот канувший в Лету мир. Увлеченность воспоминаниями нахлынула в литературу русского зарубежья своевременно - не слишком рано, когда еще нельзя было достаточно отодвинуться, чтобы единым взглядом окинуть целую эпоху, и не слишком поздно, когда уже многое забылось и душевные раны затянулись. Словом, двадцатые годы для Г. Иванова, и не для него одного, явились временем подведения итогов. Эта тенденция заметна не только собственно в мемуарах, но и в теоретических выступлениях. Например, в обществе "Зеленая лампа", интеллектуальном центре парижской эмиграции, где Г. Иванов был председателем, он прочел доклад "Символизм и шестое чувство", в котором подвел итоги этому сложному и до сих пор не вполне изученному литературному течению. Впрочем, в этом докладе он отвергал определение символизма как только одной из литературных школ. Трудно найти во всей огромной литературе о символизме более глубокое его понимание. "Символизм,- говорил Иванов,вспыхнул неожиданно как блестящий фейерверк на темном небе тогдашней литературы. Никогда ни одна школа не объединяла такого количества таких дарований. Одного Белого хватило бы на двадцать Чеховых, если бы Белый захотел быть только писателем, только "ювелиром слова". И несмотря на это, все, что осталось от символизма, напоминает груду развалин после пожара. Как будто в отличие от других, образовывающих школы и объединяющихся для того, чтобы совместно легче было пробиться, утвердиться - симво-листы объединились, чтобы "миром погибнуть". Произошло это оттого,- продолжает Г. Иванов, - что символизм добивался чего-то невозможного, неосязаемого при помощи имеющихся у человека пяти чувств. Ни краски и полотно у Врубеля, ни слова и ритмы у поэтов-символистов не в силах были воплотить того демона, который Врубелю и этим поэтам мерещился и которому дали имя: символизм. Демон этот оказался сильнее их и погубил их". В приведенном отрывке схвачена метафизическая сущность главного направления в русской культуре в предреволюционные десятилетия, грандиозное негативное электрическое поле, которое в предчувствии катастрофы нагнетала эта культура. Логическим эпилогом этого художественного и - полубессознательно - магического движения явилась кощунственная поэма Блока "Двенадцать". Для Г. Иванова эта поэма, все творчество Блока, его современники-петербуржцы, сам Петербург как воплощенная идея России, старая Россия, идущая к смерти, и тема смерти явились определяющими для всего дальнейшего его творчества прозаика. Эти темы представляют собой как бы концентрические круги и как таковые воспринимаются в единстве. По контрасту, как утверждение позитивной творческой энергии, звучит тема Гумилева, его окружения и акмеизма. Блок и Гумилев - для него не только два крупнейших поэта начала века, но и два полюса русской культуры, а в более широ-ком общечеловеческом смысле - два пути жизни. Его собственные сознательные усилия как поэта были направлены на продолжение "гумилевского" пути. Бессознательно же его влекло на путь Блока; и этот демонизм в его поэтическом творчестве в эмиграции всегда оказывался сильнее. Помимо названных - остается еще отметить тему эмиграции, т. е. целый ряд статей и рецензий о современной эмигрантской литературе и ее проблемах.
Когда писались "Китайские тени", диапазон творческих интересов Г. Иванова еще выходил за пределы названной тематики, но именно эти темы уже тогда действовали наподобие катализато-ров в его творчестве. "Китайские тени" в итоге вылились в одну из лучших книг русской мемуари-стики "Петербургские зимы". Некоторые из очерков вошли в эту книгу целиком, лишь с небольшими поправками, другие не вошли совсем. Процесс отбора был неизбежен. Наконец в 1928 г. книга была опубликована. Она представляла собой живое импрессионистическое повест-вование, отмеченное острой наблюдательностью, юмором и богатым эмоциональным подтекстом. Тон повествования о литературном быте предреволюционных лет - нередко анекдотический, но сквозь этот тон пробивается горечь, слышна ирония. Не случайно книга начинается с эпизода о "петербургской чертовне" задуманного как завязка целой книги, а не только одной из глав. Позднее из того же бесовского петербургского мотива возникла "Поэма без героя" А. Ахматовой. Каждая глава книги - картина быта с характерной атмосферой и запоминающимися деталями. Перед читателем развертывается целая портретная галерея: Сологуб, Кузмин, Северянин, Мандельштам, Ахматова, Городецкий, Нарбут и многие другие современники. В несколько переработанном и дополненном виде эта книга вышла вторым изданием в 1952 г., и тогда эмигрантский журнал "Опыты" приветствовал "Петербургские зимы" как одно из "наиболее интересных произведений, написанных за время нашей эмиграции". Тот же критик в "Опытах" очень верно заметил, что главный герой этой мастерски написанной книги, напоминающей по манере знаменитых рисовальщиков, не столько отдельные личности, сколько сам город Петер-бург. О том же самом, но острее писал в своей статье "Петербург перед кончиной" известный журналист Петр Пильский: "Георгий Иванов выпустил страшную книгу. Она напоминает о том, что хотелось бы забыть - хотелось бы, но нельзя. Пока эти главы появлялись отдельно, их видения проходили, пощипывая читательские сердца. Теперь они собраны, и разрозненные призраки сбежались, чтобы явить картину ужаса". "Петербургские зимы" была первой прозаичес-кой книгой выдающегося поэта, причем был выбран трудный жанр. Позднее он заметил об этом жанре: передача духовного опыта жизни - вообще труднейшая задача. Она состояла в синтезе биографической и исторической правды и в слиянии их в третью - правду искусства. Марк Алданов, писавший об этом первом большом прозаическом опыте поэта подчеркивал: "дебют, несомненно, очень блестящий". Чем не синтез,- пишет Алданов,- эта книга, от которой трудно оторваться. Другой рецензент (Роман Гуль), рассматривая главу о Есенине, говорит, что она являет собой лучшее, что вообще когда-либо написано об этом поэте. А Марк Алданов в том же тоне оценивает главу о Клюеве: эти страницы подлинный шедевр. Говоря об общем впечатле-нии от чтения "Петербургских зим", Р. Гуль делает вывод: "Самому требовательному читателю его "перо" доставит истинное удовольствие. Книга написана настоящим художником".