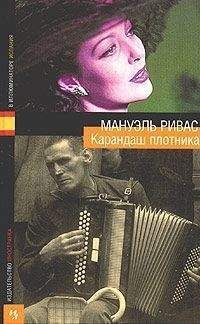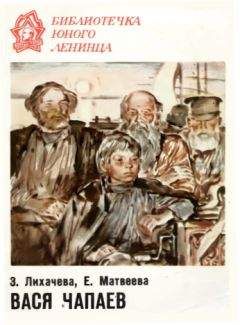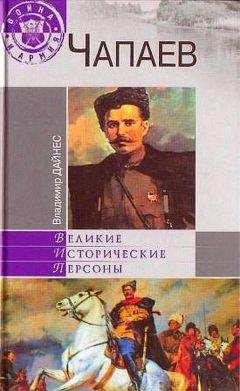Борис Бабочкин - В театре и кино
Певцов был врагом того, что называется перевоплощением. Он считал, что во всех ролях актер должен прежде всего оставаться самим собой. И он приводил в доказательство этого парадоксального, на первый взгляд, положения игру таких актеров, как Сальвини, который изображал Ромео, не заклеивая своих седых усов, не затягивая в корсет свою грузную фигуру; Комиссаржевскую, которая никогда не заботилась о создании внешности своей героини, а всегда оставалась Комиссаржевской, и это было в ней самым драгоценным; то же самое он говорил о Ермоловой, о Мамонте Дальском, Москвине, Радине, всех их считал он актерами высшего класса, актерами, которые создавали образ своими собственными, присущими им одним душевными и внешними данными. Образ должен быть найден внутри себя - вот основное актерское правило, учил Певцов. Актер,
передразнивающий кого-то, увиденного вовне, актер, стремящийся во что бы то ни стало быть похожим на кого-то другого, может в этом смысле добиваться очень больших результатов, но все же останется актером второго класса. Актер, сумевший внутри самого себя найти и заставить зазвучать те же самые душевные движения, которыми живет образ, созданный автором пьесы, - вот настоящий творец.
Певцов был актером глубоко эмоциональным. Я играл с ним очень много спектаклей. В "Страхе" Афиногенова, например, я каждый раз удивлялся тому, что в предпоследней картине - у следователя - точно в одну и ту же минуту, на одну и ту же реплику из глаз профессора Бородина, которого так необыкновенно прекрасно играл Певцов, катились по щекам крупные слезы. И было ясно, что это не фокус, не техника. Певцов просто не мог сдержать их, потрясенный событиями пьесы. Эти слезы были искренни, они рождались в душе, в сердце человека.
И вот такой эмоциональный актер, как Певцов, не придавал актерской эмоциональности - и своей в том числе - никакого значения. Скорее он ее не любил, а в себе самом избегал и немного даже стеснялся. Он не переносил слова "переживание" и употреблял его только в ироническом смысле. Надо сказать, что в то время (двадцатые и тридцатые годы) искусство Художественного театра официально называлось искусством переживания. Певцов всем своим инстинктом большого художника понял одну основную истину поведения человека в жизни. Человек не показывает, а скорее скрывает свои чувства, - значит, и на сцене правдивый актер поступает так же.
Я помню, как во время спектакля "Страх" мы стояли с Певцовым на выходе за кулисами. На сцене актеры играли какой-то сильно драматический эпизод, нажимая, что называется, на все педали. Актеры в бывшем Александринском театре были тогда сильные, темпераментные. Со сцены доносились до нас надрывные интонации и рыдающие звуки.
Певцов посмотрел на меня своими умными ироническими глазами и сказал, несколько заикаясь (этот недостаток он преодолевал только на сцене): "Все-таки... как хорошо, что мы с тобой не эмоциональные актеры", - и открыл дверь на сцену, продолжая так же, в этих же тонах, только без заиканья, говорить уже, как профессор Бородин, слова роли.
Чтобы понять Певцова как театрального педагога, мне понадобилась его студия "Молодые мастера" да, пожалуй, еще лет пятнадцать работы на сцене, но, вероятно, и сейчас еще многое осталось до конца непонятым, недостигнутым. Основное положение, которое внушал Певцов своим ученикам, можно сформулировать простыми словами: нельзя играть
текст, - нужно играть положение, в котором человек находится. Формула, пожалуй, звучит слишком прозаически, но чтобы показать все ее подлинное значение и смысл, я расскажу о последней репетиции Певцова - репетиции роли Бориса Годунова в трагедии Пушкина, поставленной в Ленинграде, Академическим театром драмы в 1933 году.
Певцов долго бормотал роль и очень не любил, когда режиссер ему много объяснял. Это ему мешало, и он не стеснялся высказывать свое недовольство даже такому режиссеру, как Станиславский. (Певцов репетировал в МХАТ царя Федора для поездки в 1923 году в Америку, и у него со Станиславским был уговор, что если режиссерские указания Станиславского, вторгаясь в чисто актерскую сокровенную область, будут мешать Певцову, то он будет тихонько стучать зажигалкой по портсигару. Певцов мне рассказывал, что к этому условному знаку ему приходилось прибегать довольно часто, и никогда Станиславский на него не обижался. Вот чему бы поучиться некоторым современным разговорчивым и "эрудированным" режиссерам. Они так любят все объяснять актеру.) В репетиционный период Певцов очень долго, пожалуй, дольше всех остальных актеров, просто бормотал свою роль, без всяких интонаций, без всякой попытки играть или что-нибудь показывать.
Так было и с Борисом Годуновым. Но наступил наконец день, когда Певцов заговорил и заиграл. Он попробовал главное место в роли Бориса - монолог "Достиг я высшей власти". По тому, как Певцов приготовился к репетиции, как надел на себя какое-то подобие халата и ночные туфли, мы поняли, что он будет пробовать.
То, что мы увидели, было неожиданно просто. Просто, как бывает простым все гениальное. Шаркая шлепанцами, сгорбленный, ленивой, расслабленной походкой вошел измученный бессонницей, усталый человек и заговорил сам с собой монотонно, медленно, как бы пережевывая еще и еще раз не новые, а уже привычные мысли. Трагическое, безысходное положение несчастливого царя становилось в таком исполнении ясным до предела. Самое страшное место монолога:
...................и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах........
..............................ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
- Певцов говорил совсем неэффектно, уходя, позевывая...
Кажется, странно. Но ведь это правда жизни. Ведь Борис не ходит ночью по дворцу, для того чтоб декламировать и истошным криком будить спящих. У него бессонница. Он не находит места от бессонницы - вот положение, в котором находится герой. Какой смелостью нужно обладать актеру, чтоб отказаться от эффектной декламации и показать истинное состояние героя!
Эта репетиция была последней репетицией Певцова. В конце ее он подошел ко мне и сказал: "Знаешь, Борис, я подцепил какую-то гадость на Памире. Ночью у меня был припадок". В этот же день его положили в больницу. Через полторы недели он умер.
Бориса Годунова играл другой актер. В монологе "Достиг я высшей власти" он раздирал страсть в клочья и кричал совершенно истерически. Никакой трагедии из этого не получалось. Видя его, я вспоминал Певцова, его усталый спокойный голос, его позевывание, и думал: вот что значит певцовская формула - не играйте текст, играйте положение, и это, пожалуй, главное из всего, чему учил Певцов. Но, кроме того, он учил находить линию наибольшего сопротивления не только в каждой своей творческой работе, но и в жизни. Он учил играть драму без слезливости и комедию без нажима и грубости.
Есть мнение, что Певцов был лишен того, что принято считать актерским обаянием. И это, пожалуй, правда, если за обаяние принимать вкрадчивость интонаций, интимную теплоту тона, обворожительную улыбку и прочие специальные средства, которые применяются для возбуждения симпатий зрителя. Обаяние Певцова было обаянием мужественной и резко очерченной индивидуальности. Он часто говорил нам, своим ученикам: боритесь со своими недостатками, а если не удалось побороть, - утверждайте их на сцене! Не стесняйтесь своих хриплых голосов, не слишком пластичных фигур. Утверждайте их! Настаивайте на них!
Уроки Певцова были нашим университетом, на них вырабатывался наш литературный вкус. Мы стали понимать Шекспира, Толстого и Ибсена. Был один вечер, который я не забуду. Мы провожали Иллариона Николаевича домой после урока. И он говорил нам об античной трагедии. Кончилось тем, что мы вернулись в студию и поздно ночью он прочитал нам "Царя Эдипа". Собственно, он сыграл нам всю трагедию. Мы не могли так играть, но если когда-нибудь, через сорок лет, мне удастся поставить "Эдипа" на сцене, я буду вспоминать ту ночь, когда в холодном зале мы смотрели на небольшого лысого человека с умным строгим лицом, и из его глаз крупными каплями падали горькие и счастливые, вдохновенные слезы...
В это время в чеховской студии атмосфера все сгущалась, стала уже совершенно монастырской, отшельнической и даже несколько мистической. Выражение лиц у всех старших учеников стало одинаковым - печально-серьезным, и было в нем даже удивительное сочетание скромности и надменности. Как странно, что это самое выражение лица я часто встречаю и теперь у многих... Сколько оно говорит мне, это скромнонадменное, печально-серьезное выражение лица. Оно говорит о том, что никогда не войти мне в касту посвященных в тайны. В какие тайны? Все равно, это не важно в какие тайны, и не пытайтесь узнать, не пробуйте понять, не вздумайте спросить...
Я считаю, что студии Чехова я обязан тем, что научился раз и на всю жизнь бояться и избегать людей с этим выражением лица. А может быть, правильнее было бы научиться самому делать на своем лице это самое важное и значительное, несколько грустное выражение, - ведь многие, усвоив его, привыкнув к нему, сжившись с ним, устроились весьма неплохо в жизни...