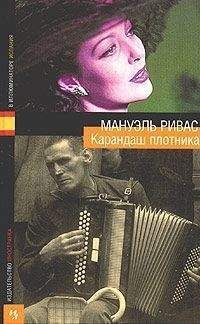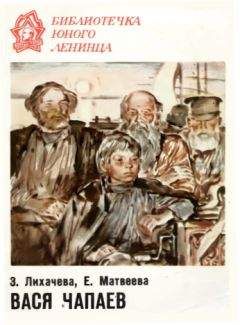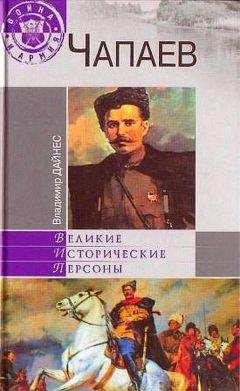Борис Бабочкин - В театре и кино
В этой атмосфере я с моей солдатской шинелью, сапогами и провинциальными манерами чувствовал себя неудобно и неуютно, хотя дела мои шли в студии хорошо. М. А. Чехов появлялся на уроках редко и всегда неожиданно. Он был необыкновенный, странный, оригинальный человек, шедший в искусстве удивительными, ему одному свойственными путями. До сих пор я уверен в его гениальности. Его уроки были ослепительны, но в них не было совсем никакой системы, никакой последовательности, никакой теории. Им можно было восхищаться, но учиться у него нельзя было.
Это время было расцветом творчества М. А. Чехова. Актер он был необыкновенный, необычайный, неожиданный. Москва ждала каждую его новую роль, затаив дыхание, все знали, что Чехов покажет что-нибудь невероятное, и всегда Чехов показывал еще более неожиданное и еще более невероятное, чем от него ждали. Каждый образ, создаваемый М. А. Чеховым, был где-то на грани реальности и фантасмагории. Знакомые, встреченные в живой жизни, рядом, вокруг нас, самые обыденные черты рядового, даже затрапезного человека подчеркивались Чеховым и раздувались до невероятных, фантастических размеров. Я смотрел его во всех ролях, пока он не уехал за границу в 1927 году, и видел, как обостряется, крепнет и растет талант актера неограниченных возможностей, необузданной фантазии и уникального дарования.
Были ли роли, сыгранные Чеховым, "сделаны"? Очевидно, если пользоваться обычной театральной терминологией, они "сделаны" не были. Чехов на сцене был импровизатором. Знаю, что когда он играл Хлестакова в гастролях с труппой ленинградских или киевских актеров, то пытался приехать в город с таким опозданием, чтоб на репетицию не осталось времени. Он старался не знать мизансцен, не знать, из каких дверей он выходит, на какой стул садится и так далее. Все неожиданности он старался использовать так, чтоб они помогали ему действовать на сцене экспромтом. Он принимал немедленные решения, действовал во внезапно возникающих обстоятельствах.
Чехов не играл роль. И учил нас не играть роль. Он учил играть ролью. Вот это самое важное, что я слышал от Чехова во время его уроков. Играть ролью, то есть овладеть ею так, чтоб она стала удобной, как привычные туфли, как любимый пиджак, овладеть ролью так, чтоб она не доставляла никаких забот, никаких трудностей, никаких неудобств. И Чехов играл так каждой своей ролью. Актеры даже очень большого таланта имеют в своей биографии две-три роли, два-три таких творческих достижения. У М. А. Чехова все роли были "сделаны" так.
Он был наблюдателен до такой степени, что можно было подумать, что он смотрит на жизнь через микроскоп. Он подмечал в людях и, вероятно, в самом себе такие тонкие, такие неуловимые черточки характера, такие странности поведения, такие скрытые нелепости душевных движений и помыслов, что, глядя на образ, создаваемый им на сцене, зритель видел будто не только его внешность, но всю внутреннюю подоплеку его движений, действий, поступков. Зритель узнавал их, как черты общие для всех людей, но замеченные впервые и сильно увеличенные. Эти черты становились удивительными. В творчестве М. А. Чехова было что-то от анатомии, вот почему во многих, а может быть, и во всех его ролях ощущался элемент некоторой патологичности, иногда раздражавшей. Но, несомненно, Чехов был великим актером, единственным в своем роде.
Критически можно относиться к одной стороне его творчества - к ролям, в которых он пренебрегал бытовыми чертами; роли эти - Гамлет Шекспира и Эрик XIV Стриндберга. В этих ролях, сыгранных Чеховым так же талантливо, как все остальные, было нечто от абстрактного искусства, от беспредметной живописи. Во всяком случае по сравнению с его Фрезером из "Потопа", Калебом из "Сверчка на печи", Муромским из "Дела" Сухово-Кобылина и Хлестаковым из "Ревизора" - ролями, выхваченными из жизни, с образами достоверными, выпуклыми, яркими и узнаваемыми каждым из сидящих в зрительном зале, как при встрече с родственником, которого давно не видел, но, повидав, вспомнил до малейших подробностей, - его Гамлет и Эрик были чуждыми, незнакомыми, странными, и хотя интересными, даже очень интересными, но все-таки выдуманными,
нафантазированными, приснившимися во сне.
Органическое слияние обоих этих начал - реалистического и мистического, потустороннего, если это выражение применимо к творчеству актера, - произошло в одной из последних ролей Чехова - сенатора Аблеухова в "Петербурге" Андрея Белого. Это было, пожалуй, самое гениальное творение актера Чехова, хотя и все им созданное было отмечено гениальностью, каждая роль Чехова была взрывом водородной бомбы. Чехов уехал из России, и весь его путь до Америки, как рассказывают, был триумфален.
Задержавшись в Риге, он оставил после себя студию, оказавшую большое и глубокое влияние на создание Латвийского Художественного театра, достижения и успехи которого хорошо известны. В Англии, играя Гамлета с актерами, говорившими на английском языке, Чехов изъяснялся на международном языке жестов и мимики, без слов. Из третьих, может быть, из четвертых уст я слышал о громадном успехе этого спектакля.
Кончил Чехов свою жизнь в Голливуде киноактером второго класса. До нас дошло несколько фильмов с его участием во второстепенных ролях. Никто уже не узнал бы того ослепительного, неожиданного Чехова, которого мы видели в Москве. Американский кинематограф заинтересовался только невзрачной внешностью Чехова. В американском кино Чехов был только типажем. Говорят, что Чехов в Голливуде, кроме того, преподавал частным порядком актерское искусство. Может быть, в некоторых великолепных достижениях американских киноактеров есть какая-то доля влияния М. А. Чехова? Кто знает?.
Я учился у этого необыкновенного человека около года, восхищаясь, удивляясь и увлекаясь им и страдая от фальшивой, тяжелой, ханжеской и показной атмосферы чеховской студии. Там Чехов был "учителем" с большой буквы и, как настоящий "учитель", он был окружен "апостолами"...
Атмосфера студии "Молодые мастера" была совсем другой -веселой, здоровой, деловой, хотя там царила полная теоретическая неразбериха. Но там был Певцов. Я был связан с ним потом всю свою жизнь. До сих пор я считаю, что Певцов был не только одним из самых великих актеров своего времени, но он был самым последовательным, самым убежденным реалистом в искусстве. Никогда не употребляя терминов системы Станиславского, он был ближе всех из известных мне артистов (включая и артистов Художественного театра) к великим реалистическим принципам Станиславского. Эти художественные принципы очень ясно выражены в статье Станиславского "О ремесле".
"...Вульгарный актерский апломб смешивается с уверенностью истинного таланта, слащавость принимается за лиризм, пафос - за трагизм, сентиментализм - за поэзию, фатовство - за изысканность вкуса, простая актерская наглость - за смелость таланта, резкость - за силу его, навязчивость - за художественную яркость, утрировка - за красочность, поза - за пластику, крик и несдержанность - за вдохновенье". Все творчество Певцова было совершенно лишено актерского апломба, слащавости, пафоса, сентиментальности, фатовства, актерской наглости, резкости, навязчивости, утрировки, позерства и несдержанности. Он был ярким положительным примером того, каким должен быть актер, совсем не похожий на актера.
Вспоминая сейчас уроки Певцова, я прихожу к заключению, что он не умел преподавать. Но, работая над отрывком из "Бориса Годунова", он умел так раскрыть глубину пушкинской поэзии, силу его мудрости, красоту стиха, что мы, будущие актеры, видели только полную свою беспомощность перед большим искусством. Но, может быть, это было правильнее, в конечном счете, чем умение, отбросив всякую поэзию, определить сценическую задачу данной роли в данном "куске".
Первое впечатление от Иллариона Николаевича было необычным. За экзаменационным столом среди типичных актеров сидел человек, в наружности которого не было ничего актерского. Все мои представления о внешности и манерах артиста спутались. Так мог выглядеть врач, редактор газеты, научный работник. Привычка рисоваться, позировать, свойственная почти всем актерам, выработанная их постоянным пребыванием на виду у публики, была абсолютно чужда И. Н. Певцову. Не было в нем и подчеркнутой простоты, присущей актерам более тонкого вкуса, выходцам из Художественного театра по преимуществу. Он не расточал обаятельных улыбок, он был серьезен, раздражителен, резок и непосредствен.
Человек громадного вдохновенного таланта, Певцов имел точную и стройную систему взглядов на театральное искусство. "Поверил я алгеброй гармонию", - любил повторять он. Его школа была суровой школой, школой строгих требований к себе, и сослужила нам всем громадную службу. Он заставил нас понять, что труд актера - тяжелый и благородный труд. Он заставил нас отказаться от расчета на эффекты, на легкие и заманчивые театральные успехи. Он учил скромности и строгости к себе. У Певцова была своя собственная, очень оригинальная и очень верная система актерского мастерства, свое собственное актерское credo.