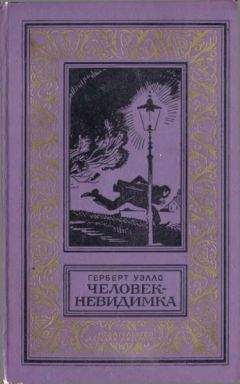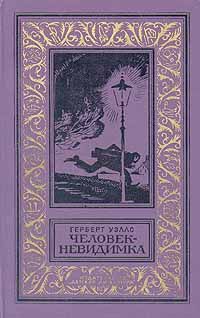Ральф Эллисон - Невидимка. Фрагменты романа
И в этот момент тромбон взвизгнул, обращаясь ко мне: «Беги скорей отсюда, дурень! А не то станешь предателем!»
И я побрел от них прочь, и услышал стон: «Иди, прокляни своего Бога и умри». Это стонала старая женщина, та что пела спиричуэлс.
Я остановился и спросил ее, стал допытываться, что за беда с ней приключилась.
Я любила своего хозяина, сынок, — сказала она.
Ты должна была его ненавидеть, — сказал я.
Он подарил мне сыновей, — сказала она. — И я любила моих мальчиков, и так выучилась любить их отца. И любила, и ненавидела.
Я понимаю. Эта раздвоенность… она мне знакома. Потому-то я и здесь.
Как это?
В двух словах не объяснишь. Почему же ты стенаешь?
Потому что нет его больше на свете, — сказала она.
Скажи, что за смех слышится там, наверху?
Это мои сыновья. Они радуются.
Да-да, понимаю, — сказал я.
Я и смеюсь, и плачу! Сколько раз он обещал, что освободит нас, да так и не собрался… И все-таки я любила его…
Любила’?.. Значит…
Да, любила! Но кое-что было мне еще дороже…
Что?
Свобода.
Свобода, — сказал я. — Должно быть, свобода — это ненависть.
Нет, сынок, свобода — это любовь. Я любила его, и я подсыпала ему яду, и он скукожился, как прихваченное заморозками яблоко. А иначе мальчики изрубили бы его кухонными ножами.
Что-то не то. Где ошибка? Не понимаю…
Я хотел еще что-то сказать но смех наверху стал невыносимо громким и больше смахивал на плач и мне захотелось вырваться и я пошел было прочь но мне непременно нужно было расспросить ее о свободе и я повернул обратно. Она сидела обхватив голову руками и тихо стонала, ее лицо похожее на кусок коричневой кожи было исполнено печали.
Скажи мне, старая женщина, что такое эта свобода, которую ты любишь больше всего на свете? — задал я заветный вопрос.
Она удивилась потом задумалась потом смутилась.
Я все позабыла, сынок. Все у меня в голове перепуталось. Сначала думаю так, потом эдак. Теперь думаю, нужно так: что на уж, то и на языке. Но не больно это легко, сынок. Слишком уж: много всего разом на меня навалилось. В голове так и стучит, так и печет огнем, видать, лихоманка мучает. Мне бы встать да пойти, только все кружится перед глазами, ступлю шаг — ноги подкашиваются. А может, и не хворь это, может, это все мои мальчики. Неладно с ними, смеются и смеются, белых задумали перебить, страх-то какой! Озлобились…
Так что насчет свободы?
Оставь меня в покое, сынок. У меня голова болит.
И я пошел чувствуя что и у меня кружится голова. Далеко, правда, уйти не удалось.
Вдруг откуда ни возьмись появился один из сыновей здоровый малый шести футов росту и саданул меня кулаком.
В чем дело, эй?! — крикнул я.
Мать плачет! Из-за тебя!
Почему из-за меня? — спросил я, уклоняясь от следующего удара.
Все твои дурацкие расспросы. Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было! В следующий раз, как одолеет любопытство, поговори сам с собой!
Он вцепился мне в горло пальцы у него были холодные и твердые как лед я наверное задохнулся бы не отпусти он меня. Пошатываясь я пошел дальше музыка истерически билась в ушах. Вокруг темнота. Постепенно в голове у меня прояснилось и почудились за спиной быстрые шаги. Я протрезвел и почувствовал неодолимую жажду покоя и тишины но понимал что они недостижимы. Откуда-то слышались нервные вскрики трубы. Раздавался глухой бит ударных похожий на стук сердца. Мне ужасно хотелось пить и я слышал шум воды в холодных трубах и пальцами касался этих труб когда ощупью искал путь в темноте но я не мог остановиться из-за шагов у меня за спиной..
Эй, Рас, — крикнул я. — Это ты, Разрушитель? Ты, Райнхарт?
В ответ — ни звука только ритмичный топот. Когда я попытался перейти улицу меня задел бешено мчавшийся автомобиль. Он ободрал мне колено и с ревом понесся дальше..
И вдруг все это закончилось, и из подземного мира звуков я поднялся на поверхность и услышал, как поет Луи Армстронг:
Что же точит меня
Эта черная грусть?
Вначале я испугался: знакомая музыка призывала действовать, а я сейчас был на это неспособен; вот если б еще немного побыл там, внизу, тогда, быть может, и рискнул… Зато теперь я понимал, что мало кто умеет слушать такую музыку. Я сидел на краешке стула и обливался потом, как будто все мои 1369 лампочек стали софитами и шпарят по сцене школьного театрика, а режиссеры — Рас и Райнхарт. Жутко тяжело было. Казалось, я задержал дыхание и вот уже битый час не могу выдохнуть, а мозг при этом работает с удивительной ясностью, как бывает после нескольких дней жестокой голодовки. И тем не менее, было в этом что-то невыразимо приятное: невидимка слышит звучащую тишину. Мне стали вдруг внятны все мои тайные влечения — и не решался сказать «да» в ответ на их соблазнительный шепот. С тех пор я больше никогда не курил траву; и вовсе не потому, что это запрещено. Достаточно, что я вижу все, что прячется по углам (обычное дело: тебя-то не видят); не хватало еще и слышать, что там творится. Это уж было бы чересчур. В конце концов так можно и вовсе утратить волю к действию. Есть у меня на этот счет горький опыт, ведь я когда-то состоял в Братстве и имел дело с Братом Джеком, — и все же, единственное, во что продолжаю верить — это действие.
Вот вам и определение: спячка — это скрытая подготовка к открытому действию.
Кроме того, наркотики совершенно уничтожают чувство времени. Поэтому легко потерять осторожность и можно в один прекрасный день запросто попасть под ярко-желтый трамвай или под какой-нибудь гнусный автобус. Или упустить момент, когда настанет пора действовать и надо будет вылезать из ямы.
А пока благодаря щедротам «Монополей гид Лайт энд Пауэр» я живу-поживаю себе потихоньку. Вы ни за что не узнаете меня, даже если мы столкнемся нос к носу, да, скорее всего, вообще не верите, что я существую. Поэтому я ничем не рискую, признаваясь, что сделал отвод от основной линии электропередачи и протянул его к себе в подполье. Раньше я жил в кромешной тьме, куда меня загнали, но теперь могу видеть. Я осветил черноту невидимости — и vice versa А еще я играю невидимую музыку своего одиночества. Выражение это вы, наверно, сочтете нелепым, но это правда: все, кроме музыкантов, умеют только слышать музыку, но не видят ее. Возможно, моя навязчивая идея описать невидимость черным по белому родилась из желания сочинить музыку невидимости. Но я оратор, я поднимаю людей… Во всяком случае, был оратором и, возможно, когда-нибудь стану им снова, как знать? Не всякая болезнь смертельна, и невидимость — еще не приговор.
Должно быть, читая это, вы возмущаетесь: «Что за ужасный, безответственный тип!» Конечно, вы правы. Я первый спешу с вами согласиться. Я — самый безответственный человек на свете. Моя безответственность — часть моей невидимости. В конце концов, перед кем я должен чувствовать ответственность, да и с какой стати, если все вы отказываетесь меня видеть? Погодите, вы еще почувствуете на собственной шкуре, как далеко я зашел в своей безответственности. Ответственность появляется, если тебя признают, а признание — это форма договоренности. Но как договариваться, когда сталкиваешься только с отрицанием? Взять хотя бы того парня, которого я чуть не забил до смерти: кто должен нести за это ответственность? Я, что ли? Ну уж, дудки. Это он налетел на меня, он оскорбил меня. Кроме того, он должен был заметить, что я разъярен, что я вне себя. Где был его инстинкт самосохранения? Этот лунатик спал и грезил на ходу. Но разве не он — полновластный хозяин в своем воображаемом мире, который, увы, единственно реален? И разве не он сам пожелал исключить меня из своего мира? Между прочим, если бы он позвал полицейского, не его, а меня забрали бы в участок за злостное хулиганство. Да, да, да! В тот раз я опять проявил ужасную безответственность: надо было, коли уж я вытащил нож, до конца отстаивать кровные интересы общества. Когда-нибудь такая вот глупость приведет к трагической развязке. Лунатикам в конце концов придется платить по счетам, причем виноватым и тут окажется невидимка — всегдашний козел отпущения. Но я ушел от ответственности; слишком уж мучительны были клокочущие у меня в голове противоречивые мысли. Я струсил…
И все-таки, что же точит меня эта черная грусть? Наберитесь терпения…
<…>
Заседание Комитета проходило в зале с высокими готическими потолками. Когда я пришел, все уже были в сборе и сидели на раскладных стульях вокруг двух небольших сдвинутых вместе столиков.