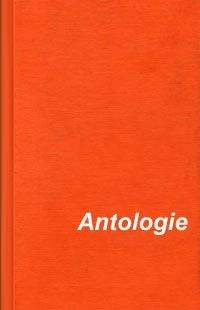Станислав Лем - Так говорил... Лем
— Вы на одном дыхании называли разные интересные фамилии, но писателя, которого, пожалуй, лишь единственного можно с вами сравнить, всего лишь упомянули. Можно сказать, что в его творчестве — более раннем, чем ваше — можно найти образец для некоторой группы ваших произведений, а вы его так неблагосклонно и, боюсь сказать, даже стратегически обошли.
— Кого вы имеете в виду?
— Конечно, Борхеса.
— А почему все этого Борхеса вбрасывают в мой огород?
— Так ведь это характерная фигура, замкнутая в мире Книги, Библиотеки, в расходящемся Лабиринте Знания. Это тоже построение загадочных гипотез, низвержение мифов, создание математизированных конструкций с замкнутой и круговой структурой… Много чего можно назвать. Это первые приходящие в голову аналогии. Если просто: человек, который съел Энциклопедию.
— Джон Леонхард тоже когда-то написал, что Лем — это Борхес научной культуры.
— И что, вы не согласны с этим определением?
— Тут немного другое. Во-первых, у меня, пожалуй, фабульной изобретательности побольше, чем у Борхеса, ведь он никогда не писал романов. Во-вторых, я не являюсь, как он, архивистом. Я никогда не творил, будучи одурманен чадом библиотек, я только отбрасывал эти огромные завалы, чтобы взгромоздить над ними какую-нибудь странность. А в-третьих, прошу заметить, Борхеса не волнуют специально ценности когнитивной, чисто познавательной, гностической натуры. Он написал в «Тлен, Укбар, Orbis Tertius», что метафизики Тлена не ищут ни правды, ни даже правдоподобия, а ищут только удивление. Должен сказать, что в отличие от автора «Алефа» я хотел бы воссоединить эти элементы. Библия говорит: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу». Вот и я хотел бы, извините, видеть именно «лицем к лицу», и чтобы это было правдой по отношению к будущему, не являющемуся предметом литературного любопытства. Я хотел бы, например, увидеть, в каких конвульсиях будет умирать система, частицей которой мы вынуждены быть, и много других вещей.
Кроме того, мне кажется, что я дошел до Апокрифов другим путем. Обычно у меня в голове бродит больше проблем, касающихся технологического развития, чем фабульных конструкций, поскольку тех меньше по своему составу, по своему количеству. И, быть может, ощущение, что попадаю в колею традиционализма — но это только мое предположение, — вызвало во мне нежелание, которое и вынудило меня писать книги все более компактные, такие как «Абсолютная пустота». Зачем мучиться над целой книгой, если можно написать рецензию на нее? Зачем кропать серию трактатов, если можно написать антологию вступлений к ним?
— Не знаю, вы тут не упрощаете иронически? Мне всегда казалось, что переход к вступлениям был вызван невозможностью — хотя бы из-за нехватки времени — написать эти книги.
— Не совсем. В некоторых случаях действительно было так, но там ведь есть и такие книги, которые можно было бы написать без особых хлопот. Думаю, что я смог бы написать, например, того же «Группенфюрера» — впрочем, недавно какая-то киностудия предлагала мне большие деньги за написание сценария на основе того материала.
— То есть вы решительно и принципиально открещиваетесь от Борхеса?
— Я неохотно вижу себя с ним в одной паре. Я, конечно, наблюдаю схожесть в общем плане, но в то же время вижу и огромные различия, если принять во внимание наши истоки. Борхес весь из прошлого, из Библиотеки, а у меня доминирующей является — это прозвучит патетически — борьба за человека и его космическую позицию. Это уже весьма принципиальное отличие, прошу также заметить, что я вообще не затрагиваю такие дела, как эстетический калибр или вопрос артикуляционной мощи, так как считаю, что это не так существенно.
Что же касается литературных предшественников, то это действительно сложное дело, потому что в польской литературе нет никого, к кому меня можно было бы пристегнуть. Нужно было бы идти куда-нибудь в сторону дарвинов, но тоже воплощенных и перемешанных… Для всех ищут предшественников, поэтому зарубежные критики запихнули меня под Потоцкого. Он писал эти свои запутанные истории по-французски, но разве для них это имеет какое-то значение?.. Уж лучше был бы Свифт, пожалуй.
— У нас тут промелькнули разные мировые писатели, а как вы относитесь к Томасу Манну, которого вы также не оставили без внимания?
— Я просто обожаю «Волшебную гору», а вы?
— Решительно предпочитаю «Доктора Фаустуса».
— Вы знаете, здесь я поспорил бы о вкусах. В «Волшебной горе» есть бодрость и свежесть. А «Доктор Фаустус» несет с собой мудрость, но мудрость старческую, которую я не люблю. Во-вторых, там нет страсти!
— Как это нет?
— Ну хорошо, есть, но она сделанная — совершенно неправдивая. Правдива для меня страсть Касторпа.
— Да ведь он к этой Клавдии Шоше даже не прикоснулся.
— Если вы под страстью понимаете исключительно тисканья, то согласен. Для меня же это правдивая страсть. Но собака зарыта в другом месте. Я напечатал на немецком языке эссе «Herr F.», в котором подробно объяснил, почему сегодня невозможно написать версию «Фауста» двадцатого века. Между прочим, и потому, что индивидуальная судьба не может быть моделью коллективных судеб. Это явная познавательная ошибка, это мистификация, поскольку аллегоризация, делающая из индивидуальных судеб широкое обобщение, которое должно уловить судьбы огромных коллективов в их историческом развитии, является предприятием, обреченным изначально, неисправимой ошибкой. Этого нельзя делать. Судьбы общества не удастся втиснуть ни в какую индивидуальную судьбу так, чтобы она была в состоянии совершить акт правосудия в категориях познания. Этических вопросов я даже не хочу касаться.
В этой книге слишком много претензий представить великое иносказание судьбы Германии, притязаний на «второй голос» в истории Германии, аллегорий этого современного дьявольского искушения.
— А что вы имеете против старческой мудрости?
— Много чего. Впервые это обозначили американцы, когда писали, что его проза такая неторопливая, величественная, океаническая и заботящаяся о себе. Однако сильнее всего ее атаковал Гомбрович в «Дневниках», язвительно говоря: «Манн, старая куртизанка». Как диатриба, это слишком преувеличено и пропитано язвительной ехидностью, но попадание в точку несомненно. Это именно кокетничанье мощью старческой мудрости — что-то вроде фальшивых бюстов Сократа. И ни Сократ, и ни Гомер, а только выдумка более поздних скульпторов, которые не видели ни того, ни другого. В «Докторе Фаустусе» есть это вколдованное в камень прошлое. Это не старец, который через шесть лет умрет, это изначально Бессмертный. Это поза Манна… Если безусловно настаивать на постулате авторской искренности, то нужно, чтобы старец знал, как сильно он подточен своей старостью и как скоро он — именно как старец — свалится в яму небытия.
— Вы жестоки и, пожалуй, несправедливы. А что, лучше, если бы он только лил слезы по поводу стремительного старческого увядания?
— Я не говорю, что он должен воем старого пса возвещать свои аккорды агонии, но двигаться в этом направлении — это значит выбрать такую благородную фальшь. В этом кроется большая доля ослепления вследствие чисто биологических факторов экзистенциального характера. А старческие фанфары разве честны? Когда все вытягивается из своего старого мозга для того, чтобы обосноваться на олимпийском пьедестале. Можно, конечно. Но я, со своей личной точки зрения, более симпатизировал бы человеку, который, отдавая себе отчет в том, что его творчество — упадочническое, давал бы понять себе и читателям, что осознает это. Не только наблюдаемому миру следует воздавать по заслугам, но и себе. Одно от другого неотделимо. Мы уже знаем от Гейзенберга и других натурфилософов, что наблюдатель неотделим от системы «объект — субъект». Нет такой суперархимедовской, то есть божьей точки, с которой можно провозглашать беспристрастные суждения. Драпировка своей позы в складки является игрой — это та же самая обычная поза. Мы можем говорить, что это благородно и гуманно, но если бы именно этого у Манна не было, тогда я бы сказал, что это правдиво.
Кроме того, я считаю, что, когда Манн писал «Доктора Фаустуса», а это был конец войны, и провозглашал различные тезисы на многочисленных встречах, в его речах пробивалась какая-то исключительная наивность. Впрочем, это проявилось раньше, когда он написал «Размышления аполитичного», которые были его поддержкой немецкого национализма во время Первой мировой войны. Именно тогда наступил болезненный разрыв между ним и братом Генрихом. Более поздней величайшей наивностью было убеждение в том, что немецкие преступления выделяют — конечно, in minus[79] — этот народ, который в наказание будет на тысячу лет отрезан от нормального мира. Для создателя великих историософических концепций это непростительная наивность. Это пик благородной наивности! Манн в силу своей роли и духовного положения обязан был знать, что мир и не такие вещи прощает. Его убеждение не имеет ничего общего с действительным ходом истории и изменчивостью эпох. Когда Япония, еще до Хиросимы и Нагасаки, терпела сокрушительное поражение под мощными американскими ударами, вся японская властная элита была убеждена, что они неотвратимо валятся в прах и небытие. Если бы им кто-то сказал, что через тридцать лет они станут самым мощным в экономической области конкурентом для своих победителей и что расцветут лишь после поражения, то им казалось бы, что это сон сумасшедшего, лежащего без чувств. Поэтому должен сказать, что если кто-то принимается за историософические игры, то должен знать, на какие темы говорить и что именно говорить. Это были великие ошибки Томаса Манна.