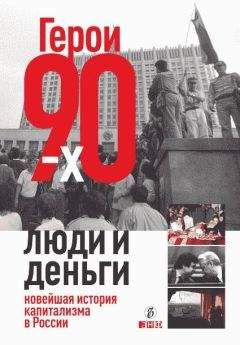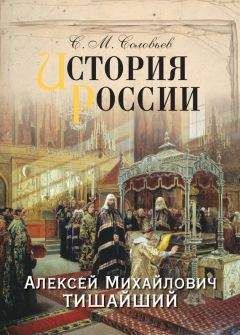Генрих Гейне - Путевые картины
Глава XXVII
Ты знаешь край? Цветут
лимоны в нем,
И апельсин в листве горит
огнем.
Там с неба веет кроткий
ветерок,
Тих скорбный мирт, и гордый
лавр высок.
Ты знаешь край?
Туда с тобой
Хотела б я теперь, любимый
мой!
Но не езди туда в начале августа, когда днем тебя жарит солнце, а ночью поедают блохи. Также не советую тебе, любезный читатель, отправляться из Вероны в Милан в почтовой карете.
Я ехал в обществе шести бандитов в тяжеловесной «кароцце», которая была так заботливо прикрыта со всех сторон от слишком густой пыли, что я почти не заметил красот местности. Только два раза по пути до Брешии мой сосед приподнял кожаную занавеску, чтобы сплюнуть. В первый раз я не увидел ничего, кроме нескольких вспотевших елок, которые, казалось, сильно страдали в своих зеленых зимних одеяниях от томящей солнечной жары; в другой раз я увидел кусочек дивно прозрачного голубого озера, в котором отражались солнце и тощий гренадер. Этот последний, австрийский Нарцисс*, с детской радостью дивился тому, как отражение в точности повторяло его движения, когда он брал ружье на караул, на плечо или на прицел.
О самой Брешии я мало могу сказать, так как воспользовался моим пребыванием в этом городе лишь для хорошего «пранцо». Нельзя поставить в упрек бедному путешественнику, что он стремится утолить голод физический прежде духовного. Но все же у меня хватило добросовестности — прежде чем снова сесть в карету, порасспросить о Брешии у «камерьере»[104]; я узнал, между прочим, что в городе сорок тысяч жителей, одна ратуша, двадцать одна кофейня, двадцать католических церквей, один сумасшедший дом, одна синагога, один зверинец, одна тюрьма, одна больница, один столь же хороший театр и одна виселица для воров, крадущих на сумму меньше ста тысяч талеров.
Около полуночи я прибыл в Милан и остановился у господина Рейхмана, немца, устроившего свою гостиницу на чисто немецкий лад. Это лучшая гостиница в Италии, заявили мне знакомые, которых я там встретил и которые весьма дурно отзывались об итальянских содержателях гостиниц и о блохах. Я только и слышал от них что возмутительные истории об итальянских мошенничествах; особенно же расточал проклятия сэр Вильям, уверяя, что, если Европа — мозг мира, то Италия — воровской орган этого мозга. Бедному баронету пришлось заплатить за скудный завтрак в «Локанда Кроче Бианка» в Падуе не более не менее как двенадцать франков, а в Виченце с него потребовал на водку человек, поднявший перчатку, которую он обронил, садясь в карету. Кузен его Том утверждал, что все итальянцы мошенники, с тою лишь разницею, что они не воруют. Если бы он был привлекательнее на вид, то мог бы также заметить, что все итальянки — мошенницы. Третьим в этом союзе оказался некий мистер Лайвер, которого я покинул в Брайтоне молодым теленком и нашел теперь в Милане сущим boeuf a la mode[105]. Он был одет как истый денди, и я никогда не видел человека, который превзошел бы его способностью изображать своею фигурой одни лишь острые углы. Когда он засовывал большие пальцы в проймы жилета, то кисти и остальные пальцы образовывали углы; даже пасть его разинута была в виде четырехугольника. К этому надо прибавить угловатую голову, узкую сзади, заостренную кверху, с низким лбом и очень длинным подбородком. Среди английских знакомых, которых я опять увидел в Милане, была и толстая тетка мистера Лайвера; подобно жировой лавине спустилась она с высот Альп в обществе двух белых как снег, холодных как снег снежных гусенят — мисс Полли и мисс Молли.
Не обвиняй меня в англомании, любезный читатель, если я в этой книге часто говорю об англичанах; они слишком многочисленны сейчас в Италии, чтобы можно было не замечать их; они целыми полчищами кочуют по этой стране, располагаются во всех гостиницах, бегают повсюду, осматривая все, и трудно представить себе в Италии лимонное дерево без обнюхивающей его англичанки или же картинную галерею без толпы англичан, которые с путеводителями в руках носятся по ней, проверяя, все ли указанные в книге достопримечательности налицо. Когда видишь, как этот светловолосый и краснощекий народ, расфранченный и преисполненный любопытства, перебирается через Альпы и тянется по всей Италии в блестящих каретах, с пестрыми лакеями, ржущими скаковыми лошадьми, камеристками, закутанными в зеленые вуали, и прочими дорогими принадлежностями, кажется, будто присутствуешь при некоем элегантном переселении народов. Да и в самом деле, сын Альбиона, хоть он и носит чистое белье и платит за все наличными, все же представляется цивилизованным варваром в сравнении с итальянцем, который являет скорее переходящую в варварство цивилизацию. Первый обнаруживает в характере сдержанность грубости, второй — распущенную утонченность. А бледные итальянские лица, с этими страдальческими белками глаз, с болезненно нежными губами — как они глубоко аристократичны по сравнению с деревянными британскими физиономиями и их плебейски румяным здоровьем! Ведь итальянский народ внутренно болен, а больные, право, аристократичнее здоровых; ведь только больной человек становится человеком, у его тела есть история страданий, оно одухотворено. Мне думается даже, что путем страдания и животные могли бы стать людьми; я видел однажды умирающую собаку: она в своих предсмертных муках смотрела на меня почти как человек.
Выражение страдания заметнее всего на лицах итальянцев, когда говоришь с ними о несчастии их родины, а к этому в Милане представляется много поводов. В груди итальянцев — это самая болезненная рана, и они вздрагивают, если даже осторожно прикоснуться к ней. В таких случаях они как-то по особенному поводят плечом — движение, наполняющее нас чувством необычайного сострадания. Один из моих англичан считал итальянцев равнодушными к политике на том основании, что они, казалось, безразлично слушали, как мы, иностранцы, толкуем о католической эмансипации и о турецкой войне*; он был настолько несправедлив, что насмешливо высказал это в разговоре с одним бледным итальянцем, у которого черная как смоль борода. Накануне вечером мы присутствовали на представлении новой оперы в «La Scala» и наблюдали картину неистовства, обычную в этих случаях. «Вы, итальянцы, — обратился британец к бледному человеку, — умерли, кажется, для всего, кроме музыки, и только она еще может воодушевлять вас». — «Вы несправедливы, — ответил бледный человек и повел плечом. — Ах! — прибавил он со вздохом, — Италия элегически грезит среди своих развалин; если время от времени она вдруг пробуждается при звуках какой-нибудь песни и бурно срывается с места, то воодушевление это вызвано не самою песней, а скорее воспоминаниями и чувствами, разбуженными песней. Италия всегда хранит их в сердце, а тут они с силою вырываются наружу, — и в этом-то смысл дикого шума, который вы слышали в „La Sсala“».
Быть может, признание это дает некоторый ключ к разгадке того энтузиазма, который вызывают по ту сторону Альп оперы Россини и Мейербера. Если мне когда-либо приходилось созерцать неистовство человеческое, так это на представлении «Crociato in Egitto»* [106], где музыка переходила внезапно от мягких тонов грусти к скорбному ликованию. Такое неистовство именуется в Италии furore.
Глава XXVIII
Хотя мне и представляется теперь случай, любезный читатель, коснуться Бреры* и Амброзианы* и преподнести тебе мои суждения об искусстве, я, однако, пронесу мимо тебя чашу сию и удовольствуюсь замечанием, что тот самый узкий подбородок, который придает оттенок сентиментальности картинам ломбардской школы, я наблюдал у многих ломбардских красавиц на улицах Милана. Мне всегда в высшей степени поучительной казалась возможность сопоставлять с произведениями какой-нибудь школы те оригиналы, которые служили для нее моделями; характер школы выяснялся при этом нагляднее. Так, на ярмарке в Роттердаме мне стал понятен Ян Стен* в божественной своей веселости; позднее таким же путем постиг я на Лунгарно* правдивость форм и энергию духа флорентинцев, а на площади св. Марка — чуткость к краскам и мечтательную поверхностность венецианцев. Устремись же к Риму, душа моя, может быть там ты возвысишься до созерцания идеального и до постижения Рафаэля!
Все же я не могу оставить без упоминания величайшую во всех смыслах достопримечательность Милана — его собор*.
Издали кажется, что он вырезан из белой почтовой бумаги, а вблизи с испугом замечаешь, что эта резьба создана из самого неопровержимого мрамора. Бесчисленные статуи святых, покрывающие все здание, выглядывают всюду из-под готических кровелек и усеивают все шпили; все это каменное сборище может повергнуть вас в полное смятение. Если рассматривать здание в его целом несколько дольше, то находишь его все же очень красивым, исполински прелестным, вроде игрушки для детей великанов. В полунощном сиянии месяца он представляет зрелище еще более красивое; все эти бесчисленные белые каменные люди сходят со своей высоты, где им так тесно, провожают вас по площади и нашептывают на ухо старые истории, забавные и святые таинственные истории о Галеаццо Висконти, начавшем постройку собора, и о Наполеоне Бонапарте, продолжившем ее.