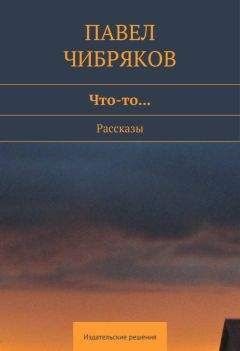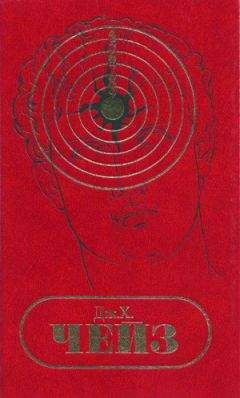Лев Пирогов - Хочу быть бедным (сборник)
Извините, шучу.
Знаете, Дмитрий Львович, проходил сегодня по улице Бочкова, постоял у мемориальной доски: «Здесь с семьдесят первого по семьдесят четвёртый год жил Василий Шукшин». Там ещё памятник, ну Вы знаете, очень хороший.
И подумалось. Вот жил человек. Тоже выводил «типчики», тоже скотство всё это людское ненавидел. Переживал, злился, «Кляузу» писал в «Литгазету». Много курил. Но всё равно прощал, жалел их. Потому что знал изнутри.
А Вы называете жалость «брезгливым чувством».
Вы противопоставляете себя Кугельскому – напрасно. Вы лучше в порядке эксперимента Шукшину себя противопоставьте.
Народ, который Вы ненавидите за его икоту и скотство, как-то всё же выскреб, выцарапал из себя этот памятник. Внизу, на самодельной фанерной полочке лежат цветы.
Дико извиняюсь, но можете ли Вы вообразить памятник оставившему столь заметный след в российской словесности уважаемому себе?
И в том ли причина, что словесность сия мертва, как всё русское?
Может, не в ней дело?
Вы очень хорошо пишете, что забитый и униженный человек обретает возможность «взлетать», когда давление на него достигает последнего предела – вроде как у нищего отняли его рубище и он перестал быть нищим, став голым, то есть попросту человеком. Но взлететь Вашим героям почему-то мало: им нужно обязательно отомстить, превратив обидчиков в тщательно описываемые Вами мясные лужи. Кугельского в отместку за донос ослепили… А ведь «Мне отмщение, Аз воздам». Не доверяете Никому это дело?
Вы пишете о прощении, но как поступка, как действительного события в романе его нет. Как нет и любви.
Даня не любит ни отца, ни брата и забывает Надю. Он лишь привязан к своему детскому восприятию матери, к морю, у которого вырос, к быту Воротниковых, короче говоря, к «хорошим местам». Людей в этих местах нет. Они не важны.
Ваше пресловутое жизнелюбие, противопоставляемое диким обычаям немилого Вам народа («больше всего труп любил увековечивать мёртвых») – это любовь к себе. К тому, чем можно овладеть, полюбоваться, что можно съесть.
Того, что не для Вас, Вы не любите. Как не любит Ваша Надя опекаемых ею стариков – слишком уродливы.
Вот Вам и разгадка, почему всё кажется «мёртвым».
Почему нет качественно удовлетворяющей Вас обратной связи (что, в свою очередь, заставляет Вас писать всё больше и больше).
Вы не попадаете в читателя.
Признательность и любовь дарит Вам ближний круг, а дальше, там где ненавистные «миллионы», – пустота.
«Сдохли они там все, что ли?!»
Говорите, что сдохли, но тут же пробуете достучаться ещё и ещё раз. Дмитрий Львович, это же экстенсивный метод хозяйствования! Говорят, он погубил советскую экономику…
Ну и последнее. В романе предпринята попытка отмазать масонов от участия в Февральской революции и развале государства. Дескать, лёгкие шутейные люди, их, можно сказать, и вовсе-то не было.
Любопытно, найдётся ли писатель, который взялся бы убедить общество в несуществовании черносотенцев?
Чувствуется, что нет. Знаете, почему?
«Не наш метод».
Это вас, если вам так угодно, не было. Мы-то были.
Облако-рай
«– Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится».
Когда-то это рассуждение Свидригайлова из романа «Преступление и наказание» было предназначено смущать умы. Сегодня в нём, скорее, видится утешение: спасибо, что хоть баньку оставили. Я в своём интернет-дневнике провёл что-то вроде опроса: «Как вы представляете себе вечность». Знаете, что ответили?
– Отсутствие всего.
– Кромешная темнота.
– Полёт сквозь ночное небо без звёзд.
– Песок до горизонта, солнце, никого и только звук ветра.
Это, так сказать, «тезис». А вот «антитезис»:
– Так же, как и каждый прожитый день.
– Вечное возвращение, всё заново повторяется.
– Всё то же самое, но без меня.
Ну и, наконец, «синтез»:
– Никак.
– Не интересуюсь.
– Её нет.
Все ответы (кроме одного, о котором позже) повторяют либо развивают свидригайловское открытие: вечность – не для человека. Либо нас для неё нет (а значит, ничего там в ней не нужно для жизни – пусть будет темнота, холод), либо её нет для нас (а значит, и думать тут не о чем: наверняка там всё то же самое, повседневность, скука). В любом случае вечность – это, как строго выразился один из моих респондентов, «отсутствие личности и всего, что её наполняет».
Чувствуете? Всё равно что спросить у Бога, как Он представляет себе мир людей, и услышать: «Отсутствие божественного и всего, что им наполняется».
И человечество, услышав такой ответ, вздохнёт с облегчением.
Куда до нас нынешних робким сомневающимся безбожникам Достоевского! Подумать только: «Если Бога нет – всё дозволено». Для Ивана Карамазова, право, Бог был чем-то вроде воспитательницы в детском садике: если вышла, можно шалить и баловаться.
Наша воспитательница не вышла – мы просто выросли и давным-давно оставили её за кормой, сурово бороздим океан взрослой жизни. А садик – ну что садик. Садик опустел, воспитательнице можно теперь ходить расхристанной, с папиросой и не закрывать за собою дверь туалета. «Если детей нет, всё дозволено».
Проблема в том, что выросшие дети воспроизводят поведение и судьбу родителей, несмотря на то, что осознают их слабости и недостатки. Человек подражает Богу, даже если не верит в Него. Какая воспитательница (пусть в наших фантазиях), такие и мы. С папироской, «всё дозволено» – вот наш идеал власти и представляемого ею миропорядка.
Если говорить о политике, то главная задача власти – «не иметь детей». Как можно надёжнее отгородиться от социальных низов на системном уровне. Для этого у власти и низов не должно быть никаких общих интересов, задач и ценностей. Вплоть до такого примитива, как защита территории и забота о сохранении населения. Сохранение это не только не входит в задачи власти, но и напрямую противоречит её интересам: ведь только если народа нет – всё дозволено.
Инстинктивно, вопреки здравому смыслу, власть стремится к тому, чтоб народа и воспроизводящих его факторов (к каковым относятся среда обитания и, например, культурные традиции) было поменьше.
В этом смысле положение, при котором государство, производя один процент глобального валового продукта, владеет тридцатью процентами мировых ресурсов, власти выгодно. Ведь дело неизбежно идёт к реализации зашитой в подсознание власти формулы: «Все умрут, а я останусь». Не в прежнем качестве останусь, конечно, – в гораздо лучшем: те же деньги и никакой ответственности.
Я об этом почему тут не к месту вспомнил? Потому что всё чаще разговоры про литературу кажутся мне слишком зыбким основанием для того, чтобы каждое утро вставать, чистить зубы и идти на работу, в то время как ты не знаешь, что будет через два-три года с твоей семьёй. Может быть (то есть наверняка), давно уже надо заниматься чем-то совершенно другим?
Ну по крайней мере я хоть стараюсь говорить о литературе поменьше.
Вернёмся к вечности. В беллетристике разбираться со слишком запущенными безвыходно-мрачными ситуациями поручают обычно детям. Я не буду оригинален. Один человек так ответил на тот мой вопрос:
– Один день из детства.
Один день счастья, которое не кончается. Так он представляет себе вечность.
Оказывается, наши проблемы с вечностью (с бессмертием, с Богом) происходят от того, что мы не любим их. Может быть, уважаем, ценим, боимся, хотели бы полюбить – но не жалеем, не любим.
Конечно, любить вечность – это шизофрения, но любить облепленные мясом скелеты с кишками внутри тоже шизофрения, если угодно. Видимо, и в людях, и в котятках с попугайчиками мы всё-таки не просто людей и не просто котяток любим.
Так почему бы не попробовать любить ЭТО в чистом виде?
Может быть, только в раннем детстве (и в родительском прикосновении к нему) человек способен испытывать чистое беспримесное чувство любви. Естественной и безальтернативной. Которая не «сильнее жизни», а неотделима от неё. Которой не замечаешь, как не замечают дыхания, о которой не знаешь, как не знает здоровый человек, что у него есть сердце, – которая поэтому и чиста от всей нашей «слишком человеческой» мясной накипи.
Чтобы хоть на мгновение, хоть на чуточку приблизиться к этому состоянию, мы и живём – через боль рожая детей, через боль (пусть другого, более потешного сорта) сочиняя литературу или разговаривая разговоры о ней. Счастливы бываем, ног не чуем под собой, если удаётся хоть немножко, частями…
А тут – сразу и много.
Десять лет вместо
2000–2010
Десять лет назад я приехал в Москву и стал работать сочинителем коротких газетных текстов.