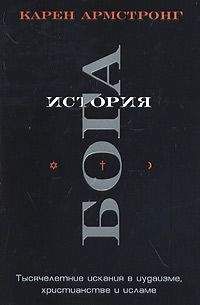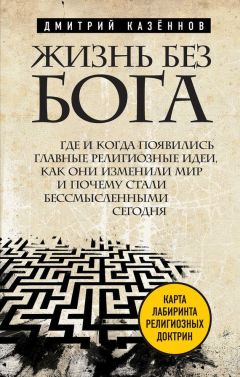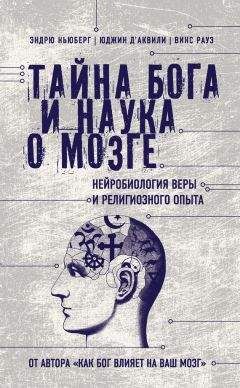Дмитрий Мережковский - Не мир, но меч
В Петербурге сблизился он с Пушкиным. Дружба эта оставила на всей жизни Гоголя неизгладимый след. Он благоговел перед Пушкиным. «Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Ничего не предпринимал я без его совета». — «О, Пушкин, Пушкин! — вспомнит он впоследствии. — Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни!» Но в тогдашних письмах своих хвастает «не этим прекрасным сном», а тем, что книга его понравилась здесь всем, начиная с государыни, и что государыня приказала ему читать в «находящемся в ее ведении пансионе благородных девиц». «Квартира моя на пятом этаже; это здесь не значит ничего: сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив вверху гораздо чище и здоровее воздух». В действительности, он в это время, как сам жалуется по другому поводу, «живет на чердаке». Но хотя, мол, и чердак, а на одном уровне с покоями Зимнего дворца. И это без малейшей иронии, с детской искренностью. «Есть во мне что-то хлестаковское», — опять невольно вспоминается признание Гоголя.
Отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутренняя неустойчивость, неравновесие ставят его в самые неловкие, нелепые и смешные, унизительные положения, делают «комическим» или, вернее, трагикомическим лицом, собственной карикатурой, правда, карикатурой исполинской, ибо в самом ничтожестве сохраняет он величие своих «первозданных элементов».
Такова история с его профессорством. «Он смотрел на науку, как на средство для составления карьеры», — замечает биограф. По выражению самого Гоголя — он «отжил кафедру». Приятелю Максимовичу, тоже будущему профессору, советует «работать сплеча, что придется» и с истинно хлестаковской легкостью решает «хватить среднюю историю томиков в восемь или девять, если Бог поможет». И. С. Тургенев, один из слушателей Гоголя, уверяет, будто бы все студенты были убеждены, что он «ничего не смыслит в истории». Лекции начинал он фразами вроде следующей: «Азия была каким-то народовержущим вулканом». Скучал сам и видел, что всем скучно. «Я читаю один… Никто меня не слушает! Хоть бы одно студенческое существо меня понимало». На экзамен пришел с головой, окутанной косынками, предоставил экзаменовать слушателей декану и ассистентам, а сам молчал все время. «Боится, что Шульгин (другой профессор) собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может», — объясняли студенты. «Непризнанный взошел я на кафедру и непризнанный схожу я с нее!» — с торжественностью заявляет он врагам своим, а друзьям — с цинической откровенностью: «Я расплевался с университетом». И в самом деле, в этой жалкой и смешной фигуре университетского Акакия Акакиевича с подвязанной щекой кто мог бы признать великого учителя, обладавшего, несмотря на недостаток сведений, гениальными историческими прозрениями?
Противоречие — и в самых простых, кровных чувствах, например в любви к матери.
Любил ли Гоголь мать? Иногда его отношение к ней кажется бессердечным. Она сама нуждается, а он берет у нее деньги и тратит «на франтовство, на разные фраки, сюртучки, галстуки, подтяжки, платочки». Деньги, полученные от матери для передачи в Опекунский совет, оставляет себе, без ее ведома, и тратит на нелепую заграничную поездку, оправдываясь мнимою болезнью и страстью, от которой будто бы ему нужно бежать из Петербурга. Впоследствии сам называет этот поступок «безрассудным» — выражение, кажется, слишком снисходительное. «Чтобы отомстить вам и рассердить вас, я написал это», — пишет он матери по другому поводу.
Так — с одной стороны; а с другой — стоит вспомнить, как в самые страшные минуты жизни обращается он к матери с просьбой помолиться за него и верить в чудо молитвы, как в свою последнюю святыню и спасение, — чтобы почувствовать, чем для него была мать, и чтобы воздержаться от легких приговоров. Некоторые из его обращений к матери напоминают ужасный, душераздирающий вопль, которым кончаются «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Посмотри, как мучат они его!.. Ему нет места на свете! его гонят!.. Матушка, пожалей о своем бедном дитятке».
Один из самых строгих судей Гоголя сознается, что не мог бы отрицать в нем «беспримерной доброты» (Отзыв Иордана у Шенрока в «Материалах», III, стр. 221). Эта простая человеческая доброта, способность простой и нежной любви сказались в той самоотверженности, с которой он, сам больной, целые дни и ночи напролет ухаживал в Риме за своим умирающим другом, молодым графом Виельгорским. На вопрос Аксакова, любил ли кто-нибудь Гоголя «исключительно как человека», — сумела бы ответить мать его, и притом так, что Аксакову сделалось бы стыдно за свой вопрос. И не только мать, — но и А. О. Смирнова, чужая Гоголю, но любившая его, как родного, и другие «жены-мироносицы» этого «мученика».
Какая-то странная бесчувственность и вместе с тем чрезмерная, почти безумная чувствительность. Именно в то время, когда в нем все наиболее кипит, пожирается внутренним огнем, он кажется снаружи, по собственному выражению, наиболее «деревянным, оболваненным, черствым и сухим». «У вас, в ваших мыслях, я остался с черствой физиономией, со скучным выражением лица». — «Если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь к вашим услугам». В обществе он всегда выглядывал каким-то «букою». «Il ma paru gauche, timide et triste», — вот первое впечатление Смирновой. И потом, когда уже под внешней черствой корой открывается внутренний мир его, истинный ад, и заглянувший в этот ад готов жалеть и любить, — в лице Гоголя вдруг мелькает опять что-то совсем неожиданное, противоречивое, что-то беззаботное, «хохлацкое и плутоватое», выражение зоркой птицы, «внимательно-задумчивого аиста», как будто он только с любопытством наблюдает со стороны за тем, что в нем и в других происходит, как будто он к себе еще равнодушнее, еще бесчувственнее, чем к другим, так что в конце концов сострадающий остается в недоумении.
Противоречие — и в языке его. С одной стороны, безграничная власть над языком: не он ли расплавил алмазно-твердый стих Пушкина и перелил его в новые формы? С другой — какая-то детская беспомощность, неумелость, косноязычие.
«Боюсь нагрешить против языка», — это вечный страх его. За границей он так отвык от русской речи, что самые простые выражения затрудняли его. «Слог и язык мой у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мною имеет право посмеяться едва начинающий школьник». «Возьмешься за перо — находит столбняк». «Перо в руках моих, как деревянная колода, между тем как мысли мои состоят из вихря».
Величайший реализм, меткость, точность слова: как будто оно не описывает, не изображает предмет, а само становится предметом, новым явлением, новой реальностью. И рядом с этим — фантастическая призрачность, неимоверные преувеличения, гиперболы, исполинский «громозд». «Дико, громадно все, — нечаянно определяет он себя в другом, — этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он».
Самое любовное проникновение к действительности: «ты изумишься, — пишет он одному приятелю в разгаре своего мистицизма, — откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек… — Я родился быть хозяином». Когда читаешь подробнейшие наставления Гоголя о полевых работах, саде, огороде, о том, как сажать овощи, как поливать их и ухаживать за ними («особенно позаботьтесь, чтоб было лучше для цветной капусты, артишоков и брунколей, которые я очень люблю»), то чувствуешь в этой, как будто самой прозаической — чичиковской хозяйственности не менее, чем в поэтической любви его к Италии, к древности, один из «первозданных элементов», одно из двух мистических начал его природы — начало земли, «матери сырой земли». «Ум мой всегда был наклонен к существенности и к пользе более осязательной», — подводит он итог своей жизни. «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения». Все это опять-таки — с одной стороны, а с другой: «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты!» — «Из-под самых облаков, да прямо в грязь!»
Так чрез всю жизнь его, как чрез великолепное здание, построенное из твердого камня, но с каким-то нарушением основных законов земной механики, земного равновесия, проходит одна длинная, сверху донизу, сначала едва заметная, тонкая, как волосок, но постепенно расширяющаяся и, наконец, бездонно зияющая трещина.
IIIНарушение равновесия, которое сказывается во всем духовном составе его, от самого малого до самого великого — от щегольства безвкусными галстуками и жилетами до злоупотребления гиперболами, от хлестаковских преувеличений до исполинских загробных страшилищ, — это же самое нарушение равновесия, эта трещина сказывается и в его телесном составе, в его болезни.