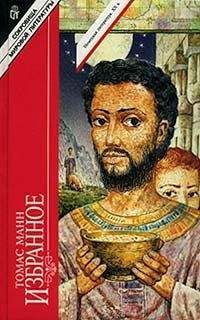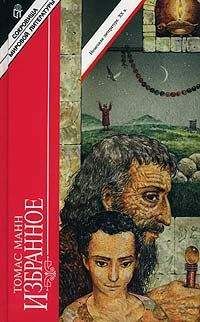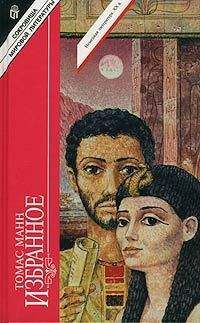Меир Шалев - Секреты обманчивых чудес. Беседы о литературе
Когда он заболевал, его немедленно укладывали в постель и начинали кормить цыплятами, парниковым виноградом и разными деликатесами. А он лежал в мягкой постели и заливался горючими слезами, потому что ему не позволяли писать латинские упражнения и отбирали у него немецкую грамматику…
А мы, его товарищи […] мы торчали на сквозняках, надеясь простудиться, но это только укрепляло нас и придавало свежесть лицу. Мы ели всякую дрянь, чтобы нас рвало, но только толстели и здоровели от этого.
И чтобы еще немного насладиться этой издевкой, я добавлю отрывок из «Гекльберри Финна». Марк Твен описывает там в первом лице образовательные страдания своего героя:
Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать; только мне у нее в доме жилось неважно: уж очень она донимала всякими порядками и приличиями, просто невозможно было терпеть…
В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в тростниках, а я просто разрывался от любопытства — до того хотелось узнать, чем дело кончится; как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно, — плевать я хотел на покойников[152].
Марку Твену было дано то, чего у д'Амичиса не было вообще, у Эриха Кестнера наличествовало в средних дозах, а у Джерома К. Джерома и Шолом-Алейхема присутствовало в изобилии — чувство юмора. Особенно тот его вид, который мы называем способностью подсмеиваться над самим собой. Вот Шолом-Алейхем хвастается своими достижениями в учебе: «Учитель считал его самым лучшим и самым честным из учеников». Но он тут же с полу-улыбкой признается в истинной сути его успехов: «А на самом деле Шолом редко знал урок. Он только делал вид, что знает, усердно раскачивался, читал нараспев — обманывал, бесстыдно обманывал учителя». Это искусство очковтирательства, эта способность взять что-то в одном месте, что-то в другом и составить из этого красивое и гладкое целое, напоминает мне сходное по смыслу определение Томаса Манна, к которому мы еще придем далее, по поводу способности писателя демонстрировать осведомленность во всякого рода профессиональных вопросах. Томас Манн определяет эту способность точным словом: «имитация знания».
У меня нет сомнения, что оба они, Шолом-Алейхем и Томас Манн, знали, о чем говорят, и я полагаю, что эта их способность — очковтирательство у одного и имитация у другого, даже если некоторые из вас сочтут эти достоинства сомнительными, послужили их величию как писателей.
В своей книге «Когда я был маленьким» Эрих Кестнер говорит: «Подлинные, призванные, прирожденные учителя встречаются почти так же редко, как герои и святые». Одного из своих учителей, господина Лемана, который жестоко избивал учеников, он определил так: «Ему недоставало главной добродетели воспитателя — терпения».
[Он] брал трость, приказывал нам протянуть руку и хлестал пять или десять раз по открытой ладони, пока она не становилась багрово-красной, не вспухала, как тесто, и не начинала зверски болеть.
И не только Кестнер. Многие из моих любимых писателей и книжных героев — еврейские, русские, немецкие и английские дети — терпели в детстве жестокие побои.
Шолом-Алейхем («С ярмарки») рассказывает о меламеде Мендле-толстяке, который «истязал учеников. Дети дрожали при одном упоминании его имени. Меламед Мониш тоже, конечно, бил детей, однако с толком. А этот Мендл мог забить до смерти».
Бялик в рассказе «Самосей» описывает своего учителя, меламеда Гершона, который избил его половником:
Век надо благодарить жену раввина. Если б она не бросилась от плиты мне на помощь с вилами в руках, меня вынесли бы из дома учителя завернутым в простыню. После этой истории я болел недели две и лежал в бреду. […] А встав после болезни, почувствовал себя слегка привилегированным и ни в коем случае не хотел снова вернуться в класс рабби Гершона.
Эти ужасные описания появляются не только в литературных произведениях, но и в документальных записках. Яков Иошуа, отец писателя А.-Б. Иошуа, в своей книге «Детство в старом Иерусалиме» описывает жестокого учителя по имени Хахам Бхор Малха, который увечил учеников кнутом и палкой. Я называю здесь имя Хахама Бхор Малхи по той же причине, что имена рабби Мендла и рабби Гершона, — потому что верю, что Яков Иошуа, Бялик и Шолом-Алейхем назвали имена своих мучителей намеренно, чтобы они стали известны миру и навеки покрылись позором.
Оказывается, таким образом, что мы по-разному помним своих учителей. Подобно Альберу Камю, мы с благодарностью вспоминаем своих хороших учителей и, подобно Якову Иошуа, Бялику и Шолом-Алейхему, запоминаем своих мучителей, чтобы воздать им по справедливости. Как и в случае Эриха Кестнера, который вырос, прославился и свел детские счеты со своими богатыми и грубыми дядьями, так и эти воздаяния — тоже месть выросших детей. Взросление не стирает из сердца детские страдания, а перо дает возможность отомстить.
«Самосей» я впервые прочел, когда сам был учеником, и помню, что скучал, но мне понравилось описание рабби Гершона. Бялик изображает его не только со злостью, но и с насмешливым презрением. Это отношение особенно выделяется на фоне его рассказа о другом, хорошем, учителе — рабби Меире, к которому он перешел, когда оправился от побоев рабби Гершона. Бялик пишет о нем, что «дети с радостью бегут в его хедер», и это резко отличается от хедера рабби Гершона, куда идут со страхом, и от школы у д'Амичиса, куда маршируют «левой-правой» по обязанности.
Другая особенность Меира — это его методы преподавания. Мало того что он симпатичен и полон терпения, он также проводит уроки не в классе, а вне дома, сидя с учениками в беседке или под деревом.
Легкая сумеречная прохлада царит там всегда, и свет каплет сквозь ветки каплями золота. Когда у рабби Меира хорошее настроение и он хочет доставить нам удовольствие, он на закате выносит стол, стул и две скамейки из беседки, и мы усаживаемся и занимаемся Торой под развесистым деревом между домом и садом. И клянусь, это лучшее время в моей жизни: дерево простирает над нами свой зеленый навес, полный птичьего щебета и трепета исчезающих крыльев. […] Большое красное солнце стоит меж деревьев и зажигает их листья огнем. «Неопалимая купина» — мелькает у меня в голове. Нити огненных фейерверков и золотые жезлы протягиваются сквозь сетку ветвей, зажигают огонь в наших глазах, и освещают сиянием бледный лоб и черную бороду рабби Меира. […] Это время неги и страстных желаний, и какая-то святость разлита в нем. Солнце спускается к горизонту. Воздух наполняется сладким ароматом. Мы увлеченно читаем псалмы, ублажая слух рабби Меира.
Интересно, что этот хедер очень похож на классы учителей второй алии в Палестине. Правда, то был хедер религиозных ультраортодоксов в странах рассеяния, а тут — секулярная школа в Израиле, но фигура доброго, терпеливого учителя, небольшая группа учащихся, позволяющая уделить внимание каждому, учебные занятия на лоне природы — все это напоминает методы обучения, распространенные в поселениях Рабочего движения до образования государства. Я упоминал раньше учителя Якова Пинеса из моей книги «Русский роман». Он тоже действовал подобными методами, и это неудивительно — ведь Пинеса я писал по образу реальных людей. Я имею в виду таких учителей, как Яков Пальмони, Мешулам а-Леви, Моше Карми и, немного позже, Менахем Зарони, которые работали в 1920 — 1930-е годы в школах Изреэльской долины и долины Иордана. Я читал их книги и воспоминания и встречался с их бывшими учениками, и кроме фактов, которые узнал, и рассказов, которые услышал, ощутил глубину того следа, который они оставили в памяти своих учеников, точно некий фирменный знак.
Конечно, эти люди были очень разными. Но у них было и несколько общих качеств. Во-первых, они не ограничивались преподаванием, но занимались также исследованиями — все они были натуралистами, коллекционерами и авторитетными наблюдателями природы. Во-вторых, природа и Библия были, по их мнению, двумя самыми важными предметами преподавания, и само собой разумеется, оба эти предмета были обильно приправлены сионистской идеологией. При этом у них были и личные пристрастия. Яков Пальмони, например, требовал от себя и от своих коллег активно участвовать в жизни поселения, знать, что происходит в деревенском хозяйстве, не покидать деревню во время отпуска — такие отлучки он называл «дурным и малокультурным городским обычаем, свидетельствующим об оторванности от трудовой жизни».
В-третьих, все они очень чутко относились к запросам и склонностям каждого отдельного ученика, к его интересам и самостоятельным, свободным занятиям. Пальмони так пишет об этом в своих воспоминаниях: