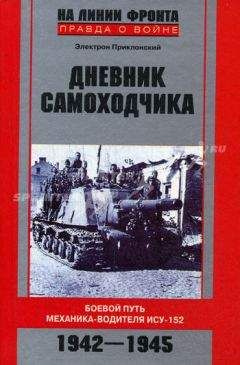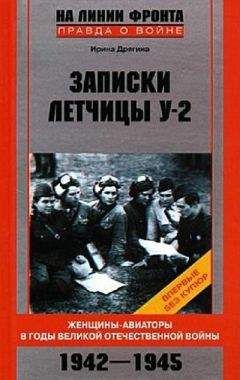Константин Симонов - Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы
Но это уже начинался 1943 год. 1942-й – кончился.
Сорок третий
Глава восьмая
От Алма-Аты до Красноводска мне предстояло добираться поездом, через Ташкент – Ашхабад, а как дальше от Красноводска, пока оставалось неизвестным – то ли самолетом, то ли пароходом.
Когда я приехал в Ташкент, встретивший меня на вокзале корреспондент «Красной звезды» по Туркестанскому военному округу, полковник Дерман, сообщил о звонке из редакции: в Тбилиси ремонтируется «эмка», которая поступит в мое распоряжение: фотокорреспондент Халип ждет меня там, чтобы ехать на фронт вместе.
Я запросил редакцию, и мне разрешили на три дня задержаться. Я хотел увидеть репетиции пьесы «Жди меня», которую ставила в театре группа киноактеров, и встретиться с одним из моих самых близких довоенных друзей, оказавшимся в Ташкенте; меня очень тревожила тогда его судьба.
Однако самым сильным ташкентским впечатлением тех дней осталась для меня неожиданная встреча с первым секретарем ЦК КП Узбекистана Усманом Юсуповым. Хорошо помню долгий разговор с ним и сидевшим у него в кабинете вторым секретарем ЦК Николаем Андреевичем Ломакиным, то и дело прерываемый то телефонными звонками, то чьими-то приходами.
Не знаю уж, почему, может быть, из-за стихов «Жди меня», первые строчки которых Юсупов вдруг прочел наизусть, то ли из-за моих сталинградских корреспонденции, которые он знал и с которых начал разговор, у него, видимо, возникла душевная потребность рассказать мне, человеку, впервые за войну попавшему сюда, в тыл, в Ташкент, о том, что здесь делается. Говорил он без прикрас, не обходя трудного. Должно быть, ему органически присуще было, начав говорить, договаривать до конца.
В то же время за его словами чувствовалась гордость сделанными он сам, и те, с кем он вместе работал, по собственной охоте и из чувства долга перед войной старались взвалить на свои плечи как можно больше, порой вдобавок ко всему, что и без того взваливалось на них сверху.
Юсупов гордился тем, что они разместили у себя в Ташкенте столько эвакуированных предприятий, выпускавших теперь военную продукцию, сколько никто сначала не надеялся тут разместить.
Но с еще большей внутренней гордостью он говорил об усыновлении сирот, о том, как много их взято из детских домов, из приемников, из санпропускников на вокзалах в узбекские семьи, в том числе в самые многодетные. Проявившаяся в этом духовная красота народа трогала его самого.
Вполне допускаю, что такой хваткий и дальновидный человек, как Юсупов, с великим трудом размещая в сорок первом и сорок втором году в Ташкенте и вообще в Узбекистане то один, то другой эвакуированный завод сверх ранее намеченных, держал при этом в памяти не только войну, но и послевоенное будущее своей республики, заранее думал о том промышленном скачке в ее развитии, основой которого станут эти эвакуированные в военное время заводы и выросший вокруг них рабочий класс. Почти уверен, что и это присутствовало тогда в его мыслях. Но первоосновой самих этих мыслей о будущем была его не дрогнувшая в самые худшие для нас времена вера в победу. Одно было неотторжимо от другого.
В конце пятидесятых годов, когда Юсупов, снятый с высоких должностей, сам выбрал для себя место работы – самый отстающий совхоз в Голодной степи и уехал туда директором, я не раз бывал у него. Должность была другая, а человек оставался все таким же духовно сильным. С утра до ночи, загорелый, пропыленный, он мотался по землям совхоза, растил в этой полупустыне сады, радовался каждому выжившему листику зелени и ни слова не говорил о прошлом. Только о настоящем в будущем. Резкая перемена в общественном положении не деформировала его личности. Он устоял, остался таким же, каким был. Пожалуй, вернейшее из всех свидетельство духовной прочности человека.
Второй секретарь ЦК КП Узбекистана Николай Андреевич Ломакин удивил меня тогда, в январе сорок третьего, своей молодостью – он был почти мой ровесник – и своей осведомленностью в писательских судьбах. Очевидно, во время разговора он почувствовал в моих словах налет молодой нетерпимости и предвзятости по отношению к некоторым из моих товарищей по профессии, по тем или другим причинам оказавшимся в ту пору не на фронте, а в Ташкенте, и в ответ стал подробно и подчеркнуто уважительно рассказывать мне, кто из писателей что здесь делает, где выступает, в каких общественных делах принимает участие.
Мои собственные настроения той поры можно короче всего выразить строфой из набросанного вчерне еще во время войны, а напечатанного много позже стихотворения «Зима сорок первого года»:
Хоть шоры на память наденьте!
А все же поделишь порой
Друзей – на залегших в Ташкенте
И в снежных полях под Москвой.
В этих строчках и отзвук сурковской «Землянки», и собственных переживаний после некоторых из ташкентских встреч.
Сказать по правде, известные основания у меня были. Но, должно быть, Ломакин чутким ухом уловил мое тогдашнее стремление к расширительному толкованию некоторых личных судеб и счел долгом дать этому отпор, деликатный, но поучительный.
Добавлю, что через полгода, летом сорок третьего, размышляя на эти же темы на страницах газеты «Литература и искусство», я подходил к делу уже более здраво:
«У нас почему-то получилось так: многие люди уехали в тыл, и вместо того, чтобы собрать там огромный материал об эвакуированных заводах, о деревне, о семьях фронтовиков, увидеть всю массу возникающих там самых животрепещущих проблем, они пожелали во что бы то ни стало писать на военные темы. Ясно, что им трудно было добиться успеха. Я не хочу, чтобы меня поняли так, что я делю художников на тех, которые большую часть войны пробыли на фронте, и на тех, которые оставались в тылу. Не в этом суть. Но беда в том, что многие писатели не нашли своей среды там, где они оказались. Будь то Камчатка, Ташкент или Новосибирск, в каждом городе нужно по военному времени такое же преданное отношение к делу, как на фронте, и творческая честность, позволяющая браться только за то, что ты хорошо знаешь».
От Алма-Аты до Ташкента я ехал около суток, а от Ташкента до Красноводска еще четверо. На разъездах навстречу грохотали длинные тяжелые составы с бакинской нефтью. Такие тяжелые, что, казалось, под ними прогибались не только рельсы и шпалы, но и сама земля.
От пяти суток, проведенных в поездах, остались следы в дневнике. Один прозаический, другой стихотворный. Сначала приведу первый.
…В поезде между Алма-Атой и Ташкентом на двух верхних койках мягкого вагона еду я и майор авиации, как впоследствии выясняется, штурман. Целый день он обо мне заботится, даже организует варку супа у проводников. Вообще очень предупредителен. На какой-то станции уговаривает меня пойти побриться, доказывает, что мы вполне успеем. Мы бегом бежим в парикмахерскую, и он поднимает кого-то уже севшего в кресло.
– Садитесь, товарищ старший батальонный комиссар.
Меня действительно успевают побрить, и мы вскакиваем в поезд. Особенного желания бриться у меня не было, но майор действовал с такой энергией, что было трудно сопротивляться.
Мы едем дальше, и он продолжает заботиться обо мне с пугающей энергией.
Ночь. Я долго читаю. Не спится. Майор тоже не спит, ворочается. Наконец, поворочавшись, окликает меня:
– Товарищ старший батальонный комиссар…
– Да?
– Я вас по газете узнал.
Я при слабом вагонном свете вижу у него в руках газету со статьей обо мне и с портретом.
– Это вы?
Отвечаю, что да, это я.
– «Жди меня» вы написали?
– Да, я.
– Тогда у меня к вам просьба.
– Слушаю вас, товарищ майор.
– Я попрошу вас сочинить для меня письмо к моей жене. Вы убедительно ей можете сказать, а мне это требуется.
Растерянно спрашиваю, что я, собственно, должен написать его жене и в чем дело, почему возникла такая необходимость.
– Я расскажу вам, в чем необходимость. Необходимость большая, – говорит майор очень серьезно и печально. – Я вам все сначала расскажу. – И рассказывает мне примерно следующую историю:
«Когда я эвакуировал семью, то отправил ее на Южный Алтай. – Он называет сначала какой-то городок, потом какое-то село. – Вот там и оказалась жена с двумя детьми. Я ей высылал аттестат. Переписывались с ней, все было вроде хорошо. А летом получаю от нее письмо, в котором она пишет: «Прости меня, Федя, все очень нехорошо. Со мной случилось несчастье». Даю ей телеграмму: «Объясни подробности несчастья», и она в ответ пишет еще одно письмо, объясняет, что есть там у них один учитель, и вот она не выдержала, сошлась с ним. Но мучается и не знает, как быть. Все это ей ни к чему и плохо, и она его бросает. Если я могу ее простить, то чтобы я простил.
Я после этого письма пошел, подал заявление в финансовую часть, чтобы ей перестали выдавать по аттестату.
Проходит четыре месяца. Я ей не пишу, и от нее ничего не приходит. Вызывает меня комиссар и спрашивает: