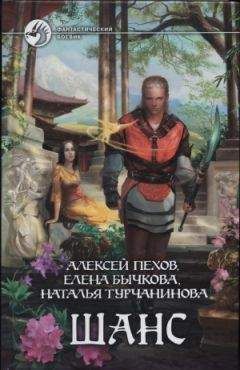Сергей Гандлевский - Эссе, статьи, рецензии
Не хныкать – для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
(О. Мандельштам)
Южанин Бабель был трезвей, если угодно, циничней столичных коллег, и Бабелю с его отношением к “кислому тесту русских повестей” вряд ли подобные терзания были близки. И каких-то особенных, сходных со “стокгольмским синдромом” и нередких в артистической среде чувств к Сталину за Бабелем не замечено. И кривил он душой, как мне кажется, “для галочки”: лишь бы только не отняли возможность ходить взад-вперед по комнате с веревочкой в руках.
В первых числах мая 1939 года Бабель поехал обновить дачу в писательском поселке Переделкино. При нелюбви Бабеля к литературной братии сама идея житья в такой колонии сперва настораживала его. Но, узнав, что дома стоят не тесно и разделены садами, он успокоился.
Около того времени на стол Сталину лег на утверждение очередной список в несколько сот человек, включая Бабеля, подлежащих аресту. Красным карандашом Сталин вывел “ЗА”.
15 мая Бабеля “забрали” прямо с дачи. Может быть, его не пытали во время следствия. Знаток жестокости, он, в отличие от своих более наивных товарищей по несчастью, не сомневался, что “у этих людей нет человечества”, – и, может быть, давал требуемые показания “по-хорошему”. Через несколько месяцев был готов дежурный набор бредовых обвинений: троцкизм, шпионаж и проч. Незадолго до суда Бабель написал заявление, что оговорил по малодушию своих знакомых и себя.
Паустовский заканчивает мемуары о Бабеле грустным возгласом: «…какой-то кусочек свинца разбил ему сердце…” Звучит слишком красиво, будто речь идет о “невольнике чести” или о жертве страсти… Исаака Бабеля деловито умертвили выстрелом в затылок 27 января 1940 года в полвторого ночи в специально оборудованном подвале – такова была процедура.
* * *За одиннадцать лет до смерти, в очередной раз оправдываясь за срыв издательских сроков, Бабель писал редактору “Нового мира” В. Полонскому: “Я не сволочь, напротив, погибаю от честности. Но это как будто и есть та гибель с музыкой, против которой иногда не возражают”. После 27 января 1940 года эти его слова могут быть истолкованы и в расширительном смысле.
2009
Читатель и самоубийство Григорий Чхартишвили. Писатель и самоубийство. – М.: Новое литературное обозрение, 1999
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг лиц, интересующихся своевольным уходом из жизни…” – снабди “Новое литературное обозрение” труд Григория Чхартишвили подобной издательской аннотацией, это не было бы только черным юмором. “Круг интересующихся лиц” куда шире, чем может показаться на первый взгляд. Почти всякий человек, достигший известного уровня духовного развития, хоть раз в жизни, да косится в сторону такой смерти. Цитирую последний абзац авторского предисловия:
...Одно из недавних социопсихологических исследований делит все человечество на пять суицидологических категорий:
– люди, никогда не задумывающиеся о самоубийстве;
– люди, иногда думающие о самоубийстве;
– люди, угрожающие совершить самоубийство;
– люди, пытающиеся совершить самоубийство;
– люди, совершающие самоубийство.
Счастливцев, относящихся к первой категории, заинтересовать своей книгой я не надеюсь. Она посвящена остальным четырем пятым человечества.
Два существительных, вынесенных в заголовок книги, можно поменять местами – ведь литераторы нужны автору постольку, поскольку их цеховая словоохотливость позволяет изучающему феномен самоубийства использовать писателей в качестве удобного наглядного пособия. Есть что-то трагикомическое в том, что представители гордой профессии, демиурги-любители, сами делаются объектом исследовательских манипуляций. Впрочем, немаловажные психологические и профессиональные особенности избранных Г. Чхартишвили подопытных могут стать причиной некоторой погрешности. Для писателя (даже вполне бесталанного) смерть – все-таки смерть на миру. Миру литератор и оставляет последнее доказательство в свою пользу – творчество. А что говорить о беспросветной тоске “простого” человека, молчаливо накладывающего на себя руки, ждущего “от смерти только смерти”! Впрочем, это снова же писательская формулировка – мы в порочном кругу.
Самоубийство потрясает воображение. Хорошо быть самостоятельным, но не до такой же степени! Каков должен быть градус отрицания, чтобы пришло в голову порвать выигрышный лотерейный билет! Религиозные и житейские возражения против самоубийства общеизвестны. Но есть в этом поступке еще что-то очень обидное для продолжающих жизнь. Значит, кому-то вконец обрыдло наше общее времяпрепровождение. Бесповоротно разонравилось все то, что в большей или меньшей мере занимает и тешит: быть молодым, взрослым, старым; зарабатывать на хлеб; правдами и неправдами пристраивать детей получше; ругать правительство; лечить зубы; фотографироваться в отпуске на фоне памятников архитектуры и красот природы; тщеславиться близостью к знаменитости; решиться наконец сказать мерзавцу всю правду; бояться смерти, когда не спится; хорохориться на людях; падать духом, разочаровываться в жизни… Но одно дело восклицать, кокетствуя: “Зову я смерть…”, а совсем другое – взять и дозваться.
Г. Чхартишвили попытался по возможности хладнокровно приблизиться к ужасному явлению, и ему эта попытка удалась. Прежде всего потому, что автором владел интерес не исключительно исследовательский, а личный: “Признаюсь, что страх – вообще один из главных стимулов написания этой книги…” – понятный резон. А вторая причина, давшая свободу и смелость рассуждать на зловещую тему, состоит в том, что самоубийство и не тема вовсе, а только содержание книги, предлог. А тема исследования – чувство собственного достоинства – “самый ценный из продуктов эволюции”, по убеждению автора. Как далеко можно зайти в отстаивании личного достоинства. Вплоть до добровольной смерти – таков пафос книги.
Впечатляет энциклопедическая широта кругозора, уверенность, с которой Г. Чхартишвили поминает в связи с предметом своих изысканий эпохи, цивилизации, вероисповедания, философские и психиатрические системы. И все это не на “птичьем” языке высоколобых и без журналистской бойкости, а внятно, сдержанно и человечно. Естественностью тона исследование во многом обязано своеобразному юмору. Звучит шокирующе, учитывая тематику книги, но это так.
“Писатель и самоубийство” написана автором с сильным интеллектом, привыкшим доверять разуму, более того, человеком цивилизованным в лучшем смысле и добропорядочным. Не знаю, где как, а у нас такое мироощущение – редкость. В отечественной традиции добропорядочность опрометчиво считается родственницей ограниченности. (Эта традиция погорячилась и регулярно пожинает горькие плоды своей горячности.) Правда, порой автор впадает в грех рассудочности. Г. Чхартишвили не хуже моего знает, что мерить религиозное чувство либеральным аршином не очень целесообразно. Но когда доходит до дела, в голосе автора, случается, сквозит высокомерие рационалиста-интеллектуала. Верующий едва ли согласится, что ему “стреножили душу”, вряд ли нуждается в сочувствии и снисхождении. Он сам нам, чего доброго, посочувствует, ибо иго Его – благо и бремя Его легко. Абсолютная независимость суждения предполагает полное равнодушие и неучастие. Всякая привязанность кладет предел свободе, в том числе и интеллектуальной. Но некоторые мыслители, Пушкин например, даже настаивали на том, что поискам истины, чтобы не быть заведомо напрасными, совершенно необходимы пристрастность, эмоциональность: “…нет истины, где нет любви”. Впрочем, с толерантно-посторонним отношением к религиозности имеет дело подавляющее большинство современников. Так что Г. Чхартишвили просто высказал то, в чем мы, как правило, стесняемся признаться.
Смерть страшна. Но если взять себя в руки на какое-то время и рассудить трезво, придет на ум, что жизнь имеет цену и оправдание только в паре со смертью. Смерть – главный довод в защиту человека, иначе его несовершенство было бы вопиющим и непростительным. Смертность – основной источник жалости к себе и (при минимуме воображения) к другим. Старение, болезнь, умирание можно рассматривать не как причину смерти, а как побочные проявления принципиальной смертности человека. Нам, каковы мы были и есть, нечего делать с бессмертием. При самом оптимистическом взгляде на мироздание мы – всего лишь “гусеницы ангелов”, как красиво сказал Набоков, и хотя бы поэтому просто обязаны умереть. Если бы смерти не было, ее бы следовало придумать. Живи мы вечно, мы бы в конце концов поубивали самих себя чем ни попадя от отвращения к жизни и к себе же, а не уходили кротко после сеанса эвтаназии, “насыщенные днями”, как прогнозирует Г. Чхартишвили в жутковатой полусерьезной утопии. Хочется верить, что человек – слишком страстное и неразумное существо, чтобы пасть так низко (см. “Записки из подполья”). Стерильный рай – в этом я полностью согласен с автором – сделает самоубийство чуть ли не стопроцентной причиной летального исхода. Но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Жизнь, по счастью, не сахар и всегда будет горька, именно поэтому за нее так цепляются и будут цепляться. Самоубийство, по счастью, останется проявлением силы или слабости сравнительно немногих. И всегда будет нести на себе печать чего-то отталкивающего и притягательного, героического и неправильного: ведь это, по ощущению, насилие не только над своей жизнью, но и над жизнью вообще.