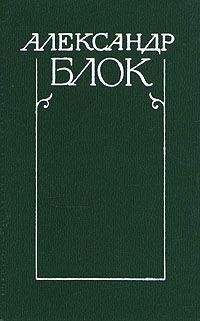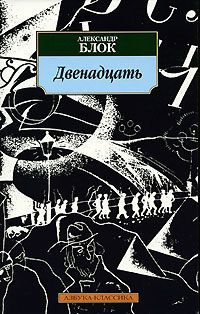Лев Аннинский - Русские и нерусские
А если не увязнет?
17 июля 1941 года заместитель наркома госбезопасности Меркулов подал совсекретную записку: «Тов. Сталину. Направляем агентурное донесение.» Источник, внедренный в штаб германской авиации, сообщает, что немцы нападут в ближайшие дни.
Тов. Сталин взял карандаш и поперек записки наложил резолюцию:
«Т-щу Меркулову.
Может, послать ваш «источник» из Штаба Герм. авиации к еб-ной матери. Это не «источник», а дезинформатор».
Резолюция за подписью «И.Ст.» наложена на документ от 17 июня.
До германского нападения — четыре дня.
Эта бумажка, которой судьба позволила в конце концов всплыть из архива, дает нынешним историкам еще один повод предположить, будто «И.Ст.» не ведает, что творит. Не говоря уже о форме, в которой он творит свои резолюции.
Грубость формы налицо. И она свидетельствует не только о давно вошедшей в легенды грубости нравов в ближнем кругу вождя, ной о его нервозности, явно дошедшей в данном случае до предела.
А есть от чего нервничать. Франция повержена, английский десант едва унес ноги из Дюнкерка. Расчет на то, что Гитлер увязнет на Западе (куда перенаправил его наш пакт), не оправдывается: вопрос только в том, когда и как вермахт развернется для удара на Восток.
На этот счет Сталин получает десятки, сотни сигналов и донесений, где и впрямь полно — с немецкой стороны — «дезы», контригры, военной хитрости. Чему верить? Дотянуть с передышкой до 1942 года — успеть перевооружить Красную Армию — не удастся. Надо решаться. То есть, надо «верить» донесениям вроде того, какое послано к.
Но это ведь не просто: «верить», это ж надо объявлять немедленную мобилизацию, а значит — получить от противника, уже отмобилизованного, немедленный удар.
Сталин его и получил — 22 июня. Десять дней не мог прийти в себя, выматерил ближайших сподвижников, уехал на дачу, приготовился к аресту. Его вернули: «наши силы неисчислимы», «надо жить и выполнять свои обязанности». Надо командовать.
— Братья и сестры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои! — воззвал по радио, от волнения стуча о стакан зубами.
Последовали решения: о всеобщей мобилизации, о военном положении, о партизанской борьбе.
Теперь все было в руках народа, в руках миллионов людей, которым досталось выполнять решения и приказы. Миллионов жизней это стоило. Миллионы жертв были принесены ради Победы.
Миллионы жертв это «уже статистика»? Но каждая из них — трагедия. Так оплачивается Победа.
Нынешним людям нелегко представить себе психологическое состояние тогдашних людей: как это они сплотились вокруг человека, именем которого же всю «передышку» прожили («пробежали») под страхом ГУЛАГа. Те же ленинградцы, перенесшие террор 1935 года, все помнили: «Ишь, ты! Братьями-сестрами назвал!.. Пискнула крыса, когда хвост зажали.»
Зажав свои обиды, ленинградцы выстояли 900 дней и ночей блокады. Радио не смолкало. По радио звучали сводки. Звучала «Илиада» Гомера. И — стихи Ольги Берггольц.
Однажды все-таки радио смолкло. Диктор то ли от голода потерял сознание, то ли умер прямо у микрофона. Люди побрели к Радиокомитету: «Мы выдержим, пусть только радио не молчит». Гомер и Берггольц зазвучали снова. Теперь, если случались перерывы, в эфир пускали стук метронома: живы, живы, живы.
Даже одна только «звуковая дорожка» той войны — это кардиограмма, вобравшая тысячи оттенков горя и радости. От медленного: «Наши войска о-ста-вили.», словно через силу произносимого Левитаном, до его же, едва сдерживаемого ликования: «Наши войска о-вла-де-ли!..»
Финал этой звуковой Илиады — вопль восставших чехов в мае 1945 года: «Советский Союз! Советский Союз! Просим поддержки, срочно — парашютной поддержки! Высадка:
Ольшанское кладбище. Винограды 12.»
Берлин дымится в развалинах, восставшая Прага боится ответного карающего удара немцев. Конев стремительным маршем идет спасать чехов.
Самое страшное в эти последние часы войны — положение власовцев, которые поворачивают оружие против немцев и поддерживают восставших. Они-то на что рассчитывают? На то, что их прежняя служба у гитлеровцев будет сразу прощена?
Сколько там расчета, сколько искреннего раскаяния, сколько больной совести, сколько последнего отчаяния? Для этих людей, попавших в западню, война тоже была кончена. Последняя их война.
Самая страшная, самая безжалостная, самая горестная война в нашей истории.
Великая. Отечественная.
И вот она уходит в даль времени, эта великая война. Но не уменьшается в памяти, как следовало бы по законам исторической ретроспективы. Напротив, растет величие этой горестной вехи. Лицом к лицу лица не увидать? Люди, четыре года смотревшие в лицо смертельного врага, вряд ли думали о том, на каком расстоянии все это покажется большим и каким большим. Чтобы расстояние стало реальностью, надо было не дать погибнуть Отечеству.
Навеки эта война вписана в нашу память как Отечественная. Независимо от того, какие формы примет жизнь в Отечестве: демократические, авторитарные. Три поля у нас навсегда: Куликово, Бородинское, Прохоровское.
А что не последней стала та война. но что последнее в жизни человечества? Может, негоже в этом сюжете цитировать немца, а может, именно немца и надо сейчас процитировать, великого немца, который сказал: каждое мгновенье надо стараться жить так, словно оно последнее.
Другое время
Потрясают и даже приводят в смятение оба эпизода, составившие единый страшный сюжет. Расстрел полковника Козлова в 1941 году. И его посмертная реабилитация в 2005 м. И тот, и другой эпизоды неотвратимы и невыносимы.
Как их связать? И почему реабилитация вызывает такое же горькое чувство, как приговор и расстрел?
Расстрел командира перед строем подчиненных — мера действительно страшная. А если учесть, что расстреливают командира, который в предыдущей кампании воевал на переднем крае, был ранен и награжден, — то ясно, что казнят честного человека. И расстреливающие знают, что он честный человек, и вышестоящий генерал это знает, и Жуков знает — отдавший приказ о расстреле.
Жуков, уже после своей мирной кончины, заслужит от иных историков войны и писателей (тоже честнейших людей) репутацию «мясника». И не без причин: вся армия знала, что он воюет безжалостно и людей не жалеет. Для сравнения: Конев наступал медленнее, но и людей терял меньше. Вы можете ответить, кто воевал лучше?
Разумеется, Конев, — если судить по нормальным законам мирного времени, когда жизнь всякого человека — ценность абсолютная.
Но надо окунуться в то море крови, которое представляет собой тотальная война, чтобы. нет, не оправдать жертвы, по мирной логике невыносимые, но — понять логику тогдашнюю — логику Великой Войны.
Да, Жуков под Халхин-Голом послал наши танки в атаку под кинжальный огонь, но сокрушил японский фронт. Он потерял бы меньше наших бойцов, если бы не пошел на такой размен кровью. Но кто подсчитает, сколько еще надо было бы положить таких же наших бойцов, если бы японцы оправились и война продолжалась.
Да, Жуков в 1945-м положил в Берлине целое поколение молоденьких новобранцев, но он взял Берлин 2 мая, и дело решилось. Кто подсчитает, сколько он на этом деле положил, но и сколько спас от дальнейших кровавых разменов?
Да, с точки зрения нормальной человеческой логики расстрел полковника Козлова под Малоярославцем в октябре 1941 года — дело чудовищное и непоправимое, но кто подсчитает, сколько еще положили бы мы там, на Варшавском шоссе, если бы такими чудовищными мерами не было остановлено наше бегство и задержаны немецкие танки?
Еще и сжалилась судьба над близкими казненного полковника, и не попала в его личное дело запись о расстреле — затерялась, видно, в хаосе отступления, — и знали его родные, что пропал человек без вести.
«Пропал без вести». Сколько горя прикрыто было этим безликим штампом в те первые военные месяцы, сколько смертей безвестных.
Иной раз подумаешь: и так погибать, и эдак. И курсанты подольские на верную гибель были посланы под Малоярославец, и погибли, но немцев задержали, и бойцы Козлова, бежавшие от немцев, были обречены. Но все-таки погибнуть смертью храбрых и быть расстрелянным перед строем — не одно и то же, хотя и там, и тут — конец. И для близких, и для памяти — не одно и то же, хотя не вернуть никого: ни стоявших насмерть, ни бежавших. на смерть.
Потрясает эта кровавая арифметика войны, но не меньше потрясают и поздние слезы, которыми страна смывает позор с окровавленной памяти своих бойцов, честно вставших в строй, да не вытянувших счастливого билета в лотерее войны.
Потрясает эта поздняя реабилитация, потому что возвращает произошедшему нормальное человеческое измерение, осознав которое невозможно вынести кровавую логику войны. И осознав эту невозможность — все-таки признать неотвратимость тогдашней логики. Бесчеловечной. Невыносимой.