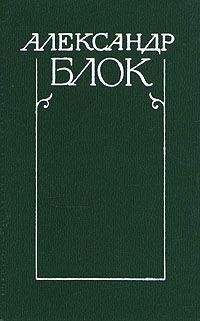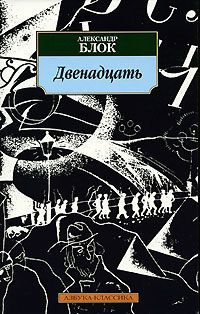Лев Аннинский - Русские и нерусские
— Кто завтра же крещения не примет, станет мне противником!
Православные златоусты сколько угодно могут говорить о просветляющей мудрости, об ипостасях Троицы, олицетворенной в трех первых русских храмах во имя Святой Софии; константинопольский патриарх, изнемогший духом от непрекращающихся русских набегов, может отныне уповать на то, что губители его сограждан смягчатся, укротят свирепый нрав свой и станут смиренниками; в перспективе же сень креста должна объединять славян, напоминая им об «огромном генетическим родственном наследии», которое просвечивает сквозь драки буйствующих и враки умствующих: панславистов, австрославистов, тюркославистов. — вопреки всему этому должна на тысячу лет воцариться меж всеми ими любовь; или, как мечтал когда-то патриарх Фотий: вот если бы тираны вняли слезам и стонам жертв, сластолюбцы принялись бы поститься, а игроки и весельчаки — плакать от умиления.
Устами бы Фотия да мед пить, — тысячу лет спустя подводит итог украинский знаток истории.
В самом деле.
Византия уповает на крещение Руси вовсе не с тем, чтобы пустить ручьи светлых слез по скулам новообращенных, а с практической целью хоть как-то унять, утихомирить, а еще лучше — приручить воинственных русов.
И солунских братьев — Кирилла с Мефодием — Византия командирует к славянам проповедовать христианство вовсе не с целью вооружить эти племена письменностью, — братья и в Моравии остаются подданными Константинополя, — но сквозь эти имперские дела проступает в конце концов нечто, для «племен» неизмеримо важнейшее, — славянское слово. Это чувствуют и тогдашние племенные вожди — чаемое величие их народов, светящееся сквозь хитросплетения имперской политики.
Свет очей сквозь сверк мечей. Духовный космос — сквозь петли интересов. Единение трех храмов Премудрости — трех Софий — сквозь напасти реальной истории.
Ну, понятно бы еще — что Русь, зажатая соседями, должна (как живописал уже в новое время один славный украинец) сбрасывать с себя смрадное иго кочевых орд с Востока и грязные лапы льстивых и разлагающихся демократий с Запада (ситуация, очевидная в Киеве и по сей день). Так ведь еще и своя своих не познаша: два берега Днепра никак не договорятся! А драки на Волховском мосту — эмблема новгородской демократии! Рок междоусобий: Новгород соперничает с Киевом, полоцкий князь рыщет между Рюриковичами, ища себе особого места.
История далека от премудрости, она писана кровью. В 1240 году, когда орды Батыя взяли Киев, Софийский собор «уцелел, однако был ограблен и опустошен». В описании этих событий у современного историка я бы переставил слова: храм был ограблен и опустошен, однако уцелел. Когда же после Брестской унии перешел к униатам, — увы, не уцелел. Грабежами и опустошением дело не ограничилось: растащили кровлю, завалили стену. И соделалось это уже не руками языческих поганцев, напавших на нас «неизвестно откуда», — но своими же братьями во Христе. А сколько раз «брали» Софию полоцкую — на роковом пограничье в Ливонской войне между православным воинством московского Иоанна и наемным «интернационалом» католика Батория! София же новгородская, кое-как перестоявшая атеистическую жуть при азиатах-большевиках, дождалась своего горького часа под факелами европейских фашистов.
И все-таки сквозь ужас человеческой истории светится высшим смыслом созвездие трех Софий, возведенных во имя премудрости божьей. Пленяет роскошество Софии киевской. Покоряет простота Софии новгородской. Поражает гордый взлет Софии полоцкой.
Киев строил храм, соперничая с Цареградом. Византийцы же бросали вызов самому Иерусалиму. Узор ложился наузор: цветущее узорочье поражало, окатывало, охватывало, град сияющ и сверкающ вставал от земли в небо; божий чертог чудился в этой горе драгоценностей; золотой блеск, роскошество тринадцати куполов, таинственное мерцание мозаик — это богатство переполнило и опьянило меня, когда в начале 60-х годов, в ходе какой-то командировки впервые оказавшись в Киеве, я попал под своды Святой Софии.
В Софию новгородскую привела меня стезя через несколько лет — каждый отпуск я стал ездить по северу России, пытаясь разгадать его притягательность. Храм Святой Софии в Новгороде поразил меня не узорочьем — его не было, а если и было, я не заметил — такая мощь, такое простое величие дышало в строгих обводах стен и кровель, такой замерший в запредельности, готовый излиться, потаенный тревожный свет. Взращенный в атеизме, я не мог истолковать это ощущение; позже мне помогли знатоки: мистическое присутствие креста — вот что передано в простоте новгородской Софии.
И вправду: какое уж на кресте узорочье?
В Полоцк я попал в 2004 году: на праздник 60-летия освобождения города от гитлеровцев приехал с группой ветеранов, один из которых до войны знал моего отца. В Святой Софии поразил меня не сам храм, а его парение над кручей, обрывающейся к реке. Меч в небо! Может, этот царственный полет над округой, это главенство над долинами Двины и Полоты, эта властность духа свела в XI веке с ума отчаянного князя Всеслава и повела неуемного борца за суверенитет «рыскать» по соседям. Кажется, что до самого Сельца, до Спаса, до святой Ефросиньи просматривается долина Полоты от храма Софии. Но прежде — взгляд вправо. В двухстах шагах от белых стен собора — старое трехэтажное, красное, вернее, черное от времени — здание военного госпиталя. Здесь лечились раненые красноармейцы, а после 16 июля 1941 года — покалеченные германские завоеватели. К осени 1942 года немцы что-то почуяли. меч русской Немезиды обнажился?.. — и принялись чистить тылы. Мудрости юберменшей хватило как раз на массовые казни. В числе других была схвачена группа, затаившаяся в полоцком госпитале, «партизанских пособников».
Расстреливать их отвезли в лагерь военнопленных — километрах в двух от собора.
Там, на берегу речки Полоты, у стен монастыря, в виду Святой Софии — стоит теперь камень в память о двадцати тысячах убитых оккупантами советских людей.
Там лежит мой отец.
Да поможет нам премудрость божья вытерпеть эту жизнь.
Примечания
1
Перевод с грузинского Александра Эбаноидзе отмечен изяществом, казалось бы, труднодостижимым, если учесть перенасыщенную полифонию прозы Отара Чиладзе. См.: «Дружба народов». 2004. № 3–4.
2
В интереснейшей книге Семена Резника «Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына» (Издатель Захаров, М, 2003) есть касающаяся меня частность, которую хочется откомментировать. С. Резник полагает, что я восторженно принял труд Н.Лескова «Еврей в России», а потом «пылко восторгался» книгой А.Солженицына «Двести лет вместе». Как в моем сознании совмещается восторженное отношение к тому и другому, для Резника, как он признается, загадка. Конечно, С.Резник вправе вычитывать из моих текстов то, что ему нужно, но я, честно сказать, пылких восторгов за собой не помню ни при чтении Лескова, ни при чтении Солженицына. А был — счастливый труд при осмыслении их текстов. От какового не отрицаюсь и теперь, при чтении книги Резника, который по многим направлениям дополнил, уточнил, а той опроверг Солженицына. Загадка не в этом, я думаю, а отгадка такая: по сверхзадаче Солженицын мне действительно ближе. Он, как может, пытается положить конец счетам и разборкам между русской властью и еврейской диаспорой в России. Резник же, куда более изощренный и осведомленный, жаждет эти счеты свести. Все это было бы не так важно, если бы в широком общественном контексте не пахло реваншем. Рискуя навлечь на себя очередные обвинения в восторженности, скажу, тем не менее, что осмысление книги Резника для меня — счастливый труд, и его повесть об эпохе Николая II — «Коронованный революционер» — по-своему захватывающее чтение.
3
Возможно, что все-таки Каалью. Как и фамилия Иосифа, в истоке (на идиш) могла быть: Корнблюм. Но это ничего не меняет. — Л.А.
4
Холокост. Энциклопедия. Издатель Уолтер Лакер. Перевод с английского. М., 2005.
5
«Литературная газета», 2006, 12 августа