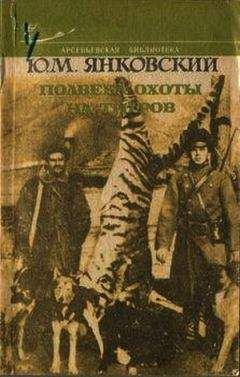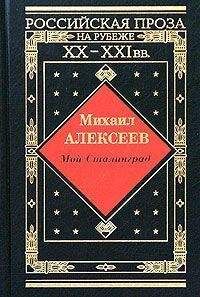Юрий Черниченко - Хлеб
— Это — как? — старается понять сбитый с толку брат, — Орошение?
— Нет. Просто чистый пар. Удалось утаить эти вот латочки. На семена, думаю, хватит.
— Значит, по-твоему… — Он понимает: — И в это лето мог быть хлеб?
— Паровые поля дали б центнеров по восемь — десять.
— Значит, ты сознательно лишил нас хлеба?
— Ты Сизова об этом спроси. Он командовал!
— Какого Сизова? — Он в негодовании хватает меня за ворот, — Я не знаю ни-ка-кого Сизова! Ты тут работал, люди на тебя надеялись, теперь жрать у тебя просят, а ты Сизова мне суешь? Я считал тебя стоящим человеком, а ты — пешка, шестерка, холуй несчастный! Сизова убоялся, сопляк! Ты ответишь за наш срам, ты, а не тот хлюст! Я не умею покупать хлеб, ты способен понять? Я обучен продавать пшеницу, наши порты оборудованы отгружать… Я золотом расплачиваюсь за твою трусость, негодяй!
Брат хочет закурить — не может, руки дрожат. Мой брат, воплощенная сдержанность, выходит из хлеба, стыдясь слез.
Ничего, пусть его. У меня уже это прошло. Теперь я, а не он, старше. Я выстою. Еще долго до того, когда вещи назовут своими именами, но во мне перелом уже произошел.
Со стороны сада к самолету возвращается Сизов:
— Что же могилу Шевчука так занехаяли? Песком занесло. Я тут эскиз памятника прибросал, в бетоне отлейте, что ли. Деньжат на это можем подкинуть.
На листке — обелиск с профилем, внизу три слова:
«Человеку, украсившему землю».
Я подал руку Диме, слова тонут в реве мотора.
От винта — вихри пыли. Отпускаю листок с рисунком, он уносится в степь.
* * *
В ту осень Рождественка стала пахать зябь безотвально. Я дневал и ночевал в степи. В работе было наше спасение. То была осень тяжкая и неповторимая, осень подлинного — без клятв и восторгов — освоения целины.
Помню вечер холодного, с реденьким дождем сентябрьского дня. На старый наш стан я приехал, когда ребята уже выпрягались.
— Сколько плоскорезов в ночь? — спрашиваю бригадира. Вместо Бориса хозяйствовал все тот же пессимист.
— А кого ставить? Отзвонили по смене, больше не хотят. И погода…
— Какая там погода, тут потоп нужен, чтоб отпоить… Плоскорезы стоять не могут.
А злы-то все — как дьяволы. У Ефима спички отсырели, никак не прикурит, матерится беззвучно. К Гошке не подступись — устал, осунулся, глаз не кажет. Скажи сейчас грубое слово — взрыв.
Даю прикурить Голобородько:
— Поработал бы ночку. Ужин привезут.
— От работы кони дохнут. Хватит, мослы видать!
— Гоша…
Отворачивается Литвинов.
— У Сизова ты б пошел, — люто поминаю ему старое. — Врешь, пошел бы — за премию!
Оглядываюсь — один я тут. И такая тоска вдруг подступила — не вздохнуть.
— Нинкин, давай робу. Меняться будем.
— Чем?
— Ты — председателем, я — на трактор. Ну? (Испуганно мотает головой.) Тогда ты. (Ефиму.) Или ты… Вы боитесь, не я. Я вас не обманывал. И не грожу, нет. Но если сейчас уйдете — вся целина псу под хвост! Мерзли, кости ломали, Нестера зарыли — и на всем крест! Некому, кроме вас, слышите? Не меня — себя пожалейте.
Поворачиваюсь — и к машине. Глядят вслед, ждут: сейчас уеду. Впервые коса нашла на камень, аж искры!
А я не еду. Помедлив, я несу им посылку с яблоками. Содрал фанерную крышку:
— От Бакуленка.
Аромат антоновки пошел кружить головы. Но не берут.
— Видал — помнит, — робко произнес, глотая слюну, старик сторож.
— А я не желаю! — вдруг заорал Сережка. — Пусть он подавится! Сами вот что жрут, а тут… Дед, забивай, назад отправим!
Черт бы подрал твою гордость, паршивец!
— Кончай, салага, — словно подслушал Литвинов. — Борька — от души…
Взял яблоко, отер мазутной ладонью, стал грызть. Следом потянулся сторож. Еще рука. Жуют, злые донельзя. Молчим, едим, огрызки — Кучуму.
— А ничего, — одобряет Ефим, принимаясь за следующее.
— Антоновка, — с полным ртом объясняет сторож.
А вообще-то оборотец! Пацаны ранеток не видят, а тут батька — за обе щеки… Промелькнула улыбка. Ну да, вон и Сергей, вздохнув, запускает лапу в ящик.
— Так что, присылать ужин?
Молчат, но настрой уже иной. Миновала гроза. Чувствую — присылать.
ЭПИЛОГ. 1966 ГОД
1
Намолот 1966 года был рекордным: наконец-то сбор целинного Казахстана превысил миллиард пудов, высокий урожай был получен у Оби, Иртыша, под Курганом. Благоприятное лето? Не только. Продлись на новых землях практика «урожая взаймы» — такому зерну не бывать. Это уже заработанный умом и мозолями, а не дарованный природой хлеб!
Выверена целинная агростратегия. Способы и орудия полеводства, механически перенесенные из европейских областей, уступают место приемам и машинам, созданным на Востоке и для Востока. Парк противоэрозийной техники уже позволяет обрабатывать десятки миллионов гектаров. Охрана целинного плодородия получила техническую базу.
Там, где урон от эрозии особенно силен, вводятся почвозащитные севообороты. Легкие почвы прикрыл травяной щит. На миллионах гектаров применяется полосное земледелие. Воздушные реки над целиной будут прозрачны, ветру больше не похищать плодородия у степи.
Нам дорого дался целинный опыт. Но к каждому новому урожаю великое поле идет все лучше подготовленным, все с меньшей зависимостью от стихии. Прочность целины — в новых типах орудий и в молодых лесополосах, в придорожных шеренгах элеваторов и кровеносных артериях трасс. Прочность целины в том, что выросла, выстояла и крепко держит штурвал когорта людей, закаленных, упрямых, знающих и любящих свое поле.
Целине не быть ни Саскачеваном, ни Кубанью, она останется великой пикой в междуречье Оби и Волги. Но это будет благодатная, плодоносная, согретая людскими руками земля, срединная в просторном государстве. Ныне и присно и во веки веков.
2
Сентябрь с его глубокими тенями и червонным золотом пшеничных буртов, с сиреневыми ромашками, зацветающими перед морозами, с блеском паутины. В такую пору поля и березы желты, а воздух чист и прохладен, вдохни поглубже — почуешь, как пахнет морозец. Голубой сентябрь урожайного года, когда работа будто захлестывает, но на самом деле в душе покой: есть хлеб, есть жизнь, крепка вера.
Студенты из строительного отряда заканчивали новую колхозную контору. Славные парни в форме, напоминающей юнгштурмовку, любители бород, гитар, не дураки заработать (какой-то и на спине рубахи вывел «MAKE MONEY»), они вкалывали здорово и крепко выручили нас.
Завернул к ним, с удовольствием оглядываю будущие кабинеты. Уже мебель стали завозить: рижский письменный стол сгрузили, у порога стоит.
Вижу — Татьяна из школы идет. Машу, чтоб заглянула: хочу посоветоваться.
— Вон, Танек, кабинет председателя…
— Боже, какие хоромы! Руководи — не хочу.
— Слушай, стены хочу желтеньким, а занавески зеленые, как считаешь?
— Яичница с луком, — морщится она, — Надо что-нибудь поинтересней.
— Например?
Перед строением останавливается «Запорожец» — Литвинов со чады, как только вместились все! Рядом с ним — беременная жена.
— Что, уже? — подбегает к ним Татьяна. — Всей гурьбой маму провожать?
— С этим лучше раньше, — усмехается Гошка.
— Соображайте двойню, чтоб не мелочиться, — напутствую их.
— Не волнуйся, и баба Нюра, и я — присмотрим, — обещает роженице Татьяна.
Уехали.
— Витя, у меня давно сидит идея: отдай ты этот храм под больницу, — небрежно говорит Таня. — Хорошо будет, честное слово.
Я пока без злости показываю на лоб — относительно ее «шариков», конечно. Не обращает внимания.
— И красить ясно чем. И бабы зимой не будут в машинах рожать.
— Идите вы в район с такими идеями. У них фонды на это.
— Это в тебе Он говорит.
— Это я тебе говорю! — отчеканиваю, пресекая разговор. — И кончай, пожалуйста, богадельню, сыт!
Она совладала с обидой.
— Не опускайся, милый, — просит она, и давние, полузабытые нотки звучат в голосе моей учителки. — Пожалей, не опускайся.
Черта с два, догонять не стану! Началась затяжная осада.
К счастью, Сергей Нинкин отвлекает меня. Остановил грузовик с зерном, кричит:
— Виктор Григорьевич, опять сильной не приняли!
— Такую пшеницу? Ну, жулье, ну, канальи, я вас к Щеглову потащу…
Решительно иду к «газику». Кричат вдогонку:
— Стол-то заносить, или как?
— Заносить и ставить в кабинете, — нарочно громко, чтоб и она услышала.
* * *
Асфальтовая лента среди хлебов. Гоню к элеватору, сейчас во мне злости на сорок тысяч братьев.
«Волга» на обочине, возле нее голосует шофер.