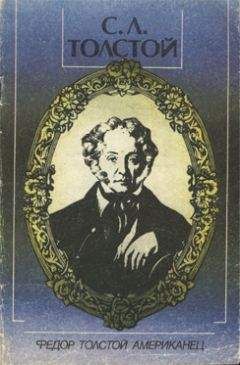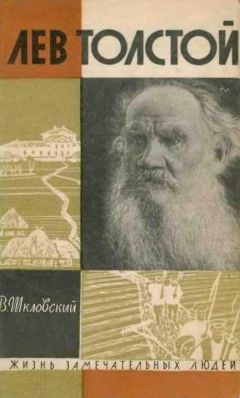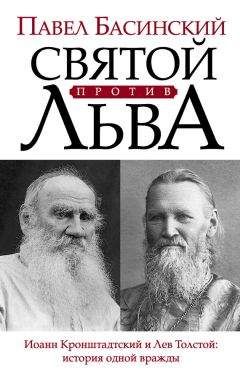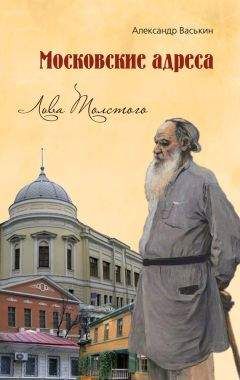Яков Лурье - После Льва Толстого
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ТОЛСТОЙ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА
Век, первое десятилетие которого застал Толстой, идет к концу. Что же принес этот век нового, и в какой степени он подтвердил мрачное предсказание Чехова, что после смерти Толстого "всю к черту пойдет"? Главное, что отличает двадцатый век от предыдущего, да и от всех предшествовавших, - это масштабы человекоубийства, то, что В. Гроссман назвал "массовым забоем людей". Выросло население планеты, еще значительнее увеличилась средства массового уничтожения. "Массовый забой людей" происходил в XX в. в двух мировых войнах и во множестве местных - гражданских и межгосударственных. Но убийства миллионов осуществлялись не только на фронтах, но и вне их - в тюрьмах и огромных человеческих заповедниках, которые обычно именовались лагерями. К концу XX века две основные системы; творившие убийства, в какой-то степени отошли в прошлое: был побежден во второй мировой войне фашизм; распалась, сгнив изнутри, коммунистическая идеология в России и в ряде сопредельных стран. Сегодня люди пытаются уже подводить итоги кончающемуся столетию, искать причины пережитых бед, извлекать из них уроки. Каралось бы, в обстановке всеобщего поиска причин бед XX века и путей избавления от них, в России естественно было бы обратиться к наследию того человека, в котором давно уже видели живое воплощение совести страны. Но, странным образом, это не происходит. Широка популярны идеи Достоевского. Но писатель, которого, говоря о величии русской культуры, называют обычно рядом с Достоевским и даже впереди его, соединяя их как бы в единого "Толстоевского", в размышлениях о нравственных проблемах и судьбах страны почти не упоминается. Недавно О. Чайковская, выступив против нарастающего культа Достоевского, когда "многие его уже читают, как правоверные - Коран", противопоставила ему другого писателя того же времени: "...они всегда помнили друг о друге, вольно или невольно были соперниками, деля между собой любовь и восторги образованной России". Кто же этот второй писатель, второй "источник", из которого О. Чайковская советует пить, ибо он "всегда благотворен". Тургенев. О Толстом она даже не вспоминает (*). Сегодня, обращаясь к прошлому, наши публицисты изучают наследие славянофилов и писателей консервативного направления XIX в. Чичерина, Данилевского, Страхова. Но преобладающее влияние на современную интеллигенцию получили мыслители первых десятилетий XX столетия, предшествовавших революции. Как бы перечеркнув весь опыт завершившегося столетия, писатели ринулись к началу его - в салоны так называемого "серебряного века", к Мережковскому и Гиппиус, Бердяеву и С. Булгакову, Гершензону и Розанову. Пожалуй, наиболее популярной фигурой в нынешней публицистике оказывается непримиримый обличитель Толстого, твердокаменное мировоззрение которого смутило даже Гиппиус и Бердяева, - Иван Ильин. (* Чайковская О. Из двух источников // Новый мир. 1985. No 4. С. 228-244. *) Ильина перепечатывают ныне и в "Юности", и в "Новом мире", и в других журналах, печатают отдельными изданиями. На него постоянно ссылаются - и отнюдь не одни только национал-патриоты, но и люди, почитающиеся либералами. В чем же заключаются идеи Ильина, столь восхитившие разнообразных авторов? В противоположность Толстому, чьи взгляды он так сурово осудил, Ильин был твердо убежден, что историю творят монархи и государственные деятели; он не сомневался, что от того или иного их поступка зависел исход событий, что если бы в 1917 году "Государь Император предвидел неизбежный хаос... то он не отрекся бы, а если б отрекся, то обеспечил бы сначала законное престолонаследие и не отдал бы... пустому месту, которое называлось Временным правительством..." (*) Философ по-видимому, запамятовал, что Николай II передал престол не Временному правительству, а своему законному (ввиду болезни сына) наследнику - брату Михаилу и что дальнейшие события к нему вообще не имели отношения. Ну, а если бы он не отрекся? Достаточно даже не обращаться непосредственно к многочисленным источникам, а прочесть "Март Семнадцатого" Солженицына, чтобы понять, что законного отречения царя жаждали правые политики (Шульгин, Гучков), а Совет рабочих депутатов отнесся к нему вполне равнодушно, ибо революция уже совершилась, и им нисколько не нужна была легитимная смена власти. (* Ильин И. О сопротивлении злу // Новый мир. 1991. No 10. С. 219. *) Так обстоит дело с историей. Что же предлагал Ильин на будущее? "Править должны лучшие". "Идея ранга". "Пока идея национальной диктатуры не подберет себе честный и идейный правящий аппарат... говорить о выборах невозможно... Права голоса не могут принадлежать... интернационалистам - навсегда, рядовым коммунистам - на 20 лет... Никаких партийных программ, плакатов, никакой агитации быть не должно... Не прямые выборы, а многостепенные..." (*) Лев Николаевич Толстой считавший, что "патриотизм есть рабство", несомненно попал бы в число "интернационалистов" - следовательно, даже если бы Ильин не повесил его, как заключила из рассуждений Ильина Гиппиус, то уже в число "лишенцев" несомненно включил. Ильинская идея многостепенного голосования, как и рассуждения Шипова, приведенные Солженицыным (см. выше, с. 140), о том, что "народное представительство должно выражать не случайно сложившееся во время выборов большинство избирателей", а представлять "наиболее зрелые силы народа", что-то нам, людям 90-х годов, невольно напоминают. Да, да, конечно, - двухстепенную систему выборов (съезд и Верховный совет), а в Верховном совете СССР - обеспеченную заранее одну треть "наиболее зрелых сил", тех, которые уже имели семидесятилетний опыт власти. Правда, лозунги, которые выдвигали эти "наиболее зрелые", тогда еще не вполне соответствовали ильинским идеалам, но недостаток оказался легко поправимым. Давно уже расставшиеся с ненавистным "интернационализмом", носители "ума, чести и совести" ныне готовы согласиться и на монархию, и на пастырство церкви, и на панславизм и испытывают особое пристрастие именно к И. Ильину. (* Новый мир. 1991. No 10. С. 221; Юность. 1990. No 8. С. 65-66. *) Людям, которым идеи такого характера кажутся новыми и плодотворными, даже не приходит в голову вопрос: в чем гарантия того, что новый "национальный диктатор" подберет себе более совершенный "правящий аппарат", чем это делали прежние правители, что новая элита, новые "лучшие", будут действительно лучше прежних? Для Ивана Ильина различение "зла" и "добра" и насилия во имя того или другого было так же ясно и не требовало обоснования, как для автора, подписывавшего свои сочинения той же фамилией, - Владимира Ильина. Зинаида Гиппиус писала более шестидесяти лет назад, что И. Ильин и большевики - "противники обратно-подобные во всем: в духе, в центральных своих идеях... уже не обратно, а прямо подобные в выборе орудий и средств для "победы"". Ныне, когда большевики проявили готовность отказаться от прежних "центральных идей", подобие становится прямым и полным. Старые, не подлежащие сомнению догмы сменяют новые, столь же непререкаемые: если раньше слово "революция" означало все новое и прекрасное (даже в косвенной форме - "революция в науке"), то теперь оно должно воплощать нечто страшное и отвратительное. "Больше всего я не люблю революции", - вещает по телевизору изящная дама, введенная в Верховный совет от союза дизайнеров. В либеральной питерской газете "Литератор" автор письма в редакцию потребовал переименования улицы Петра Алексеева, ибо не может жить в городе, где улица носит имя убийцы (кстати, Петр Алексеев, рабочий-пропагандист, никогда никого не убивал); но его не смущает имя Суворова, пролившего наверняка больше крови, чем любые террористы, - причем, не в оборонительных войнах, которых великому полководцу вести не довелось, а как раз за пределами своего отечества. Главное, что отличает сознание людей, решительно претендующих ныне на решение общественных проблем, - это утрата того "здравого смысла", который, по убеждению Толстого, помогает человеку идти верным путем. Исходя из принципа: "Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали", - Толстой отвергал всякое подчинение человеческой нравственности историческим и политическим целям, всякое стремление устраивать чужую жизнь по некой навязанной программе. В XX веке преобладало именно такое отвергнутое Толстым стремление: нравственным объявлялось то, что соответствовало общественному "добру" - классовым или национальным интересам; "злом" - все, что ему противостояло. Правда, и в XX веке находилось немало людей, склонных к "здравому смыслу". Вспомним Короленко, Синклера Льюиса, Оруэлла, Сахарова. Но преобладающими фигурами среди интеллигенции - и в частности, русской интеллигенции - стали люди, отвергавшие, как это делала Гиппиус в споре с Толстым, "весьма условное понятие здравого смысла" и предпочитавшие ему нечто иное - возвышенное и иррациональное. Они и предпочитали: одни - Муссолини и Гитлера, другие Ленина и Сталина. Конечно, не интеллигенция, обожествлявшая "прогрессивные" идеалы и готовая принести им в жертву миллионы человеческих жизней, породила фашизм и коммунизм. Она лишь оформляла идеями "однородные влечения" отчаявшихся человеческих масс, но и такое оформление было немаловажно для совершения убийств. Что же действительно изменилось в мире со времени Толстого? В чем его идеи не выдержали испытания временем и в чем - выдержали? Изменилось многое. Во времена Толстого его страна была по преимуществу крестьянской и кормили ее сельские жители - ныне большинство страны составляют жители городов. Процесс этот можно в какой-то степени считать искусственным следствием истребления значительной части крестьянства; но демографический сдвиг в пользу городов за счет сельского населения происходит во всем мире. Сдвиг этот предопределил, казалось бы, парадоксальное явление: индустриальные страны, с их ничтожным (но обладающим техникой) числом земледельческого населения, оказываются способными снабжать продовольствием не только себя, но и огромный мир бывших аграрных государств - не одну лишь Россию, но и миллиардный Китай, и ряд других стран. Общественные сдвиги XX века, небывалый рост техники породили явление, аналогичное тому, которое уже наблюдалось в начале XIX в., но в гораздо более широких масштабах, "Однородные потребности" выброшенных из повседневной жизни людей облегчили объединение их в огромные сплоченные массы. В мирное время часть из них можно было обратить в охранников и тюремщиков, а другую, куда более обширную, - в заключенных; для войны же избыток населения открыл возможность создания таких армий, которых не знала до того история. Самые войны приобрели иной характер, чем прежде. В "Войне и мире" Толстой писал, что "военное слово отрезать не имеет никакого смысла. Отрезать можно кусок хлеба, ноне армию. Отрезать армию - перегородить ей дорогу - никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой ничего не видно..." (12, 168). Танковая война, невиданная прежде плотность военных сил, сделала старую ганнибалову идею всестороннего охвата противника, отрезания целых армий, окружения, "котлов", вполне реальной: сперва их смогли осуществить гитлеровские армии на Западе и в России, а затем советская - под Сталинградом (*). (* Ср.: Гроссман В. Жизнь и судьба. М., 1988. С. 614-615. *) Нельзя, однако, утверждать, что эти изменения - как они ни важны - опровергли философию истории Толстого. Ни в какой мере двадцатый век не доказал, что личность государственного деятеля может быть всемогущей. Если Наполеона Толстой не считал "великим человеком", способным делать историю, то еще меньше оснований претендовать на эту роль имели Гитлер и Сталин. Все, что мы о них знаем, свидетельствует о том, что это были "самые выдающиеся посредственности" в породившей их среде, существа с резко выраженным комплексом неполноценности, различавшиеся лишь тем, что один из них был холериком, а другой - скорее флегматиком. Они не делали историю; не делал ее и Ленин: при всем своем фанатизме он был оппортунистом, следовавшим сперва бунтовщическому напору масс, а потом - стремлению страны (и своих собратьев по партии) к рыночным отношениям. Огромные средства истребления, оказавшиеся в руках государственных деятелей XX в., не изменяли того обстоятельства, что они, бравшие на свою совесть массовые убийства, могли это делать потому, что их волю готово было выполнять множество людей. В значительной степени требует переосмысления взгляд Толстого на государство. Еще раз напомним, что Толстой не был политиком, что к политическим проблемам он подходил с чисто нравственной точки зрения, не претендуя на какие-либо проекты устройства общественной жизни. И с этой нравственной точки зрения он был совершенно прав, когда видел в государстве не непререкаемого арбитра, стоящего над обществом, а совокупность людей, движимых в первую очередь личными интересами. Такое отношение к представителям государства выражено им в "Смерти Ивана Ильича", и в "Воскресении", и в "Живом трупе". Но логически вытекающая отсюда идея отказа от государства, безгосударственного общества, оказалась в XX веке чрезвычайно опасной: анархизм явился людям не в том мирном и благородном виде, в котором он представлялся Толстому или Кропоткину, а в образе Железнякова, Махно и различных террористических групп XX века. Что может противостоять этой губительной силе? Тоталитарное государство, возможно, способно было справиться с мафиозными структурами (как это было в фашистской Италии), но становилось само еще более страшной мафией. Однако демократическое государство, исполнительная власть, уравновешенная законодательной и судебной, оказалась все же в итоге XX века наименее опасной и наиболее надежной из известных нам гарантий нормального человеческого существования. А если это так, то и самые выступления Толстого против "суеверия устроительства" следует, по-видимому, принимать с определенными оговорками. Государственные деятели не делают историю, они лишь осуществляют то, что вытекает из совокупности стремлений общества, но кто-нибудь все же должен такие стремления оформить. Освобождение крестьян в 1861 г. происходило, вопреки мнению некоторых современных публицистов, не потому, что этого пожелал "царь-освободитель" Александр II, как объяснил он сам в речи московским предводителям дворянства, лучше было "освободить крестьян сверху, нежели ждать, когда они сами освободятся снизу". Но непосредственное оформление реформы осуществлялось все же конкретными лицами - Я. И. Ростовцевым, Н. А. Милютиным и другими. Если бы американскую Декларацию прав написал не Т. Джефферсон, а Конституцию составил не Дж. Медисон, - это сделали бы другие люди, но кто-нибудь должен был (в той или иной форме) создать эти кодексы. Одним из самых трудных для Толстого вопросов был вопрос о допустимости или недопустимости противления злу силой. Очень своеобразную, но несколько искусственную поправку к этому принципу предложил Д. Панин (прототип Сологдина из солженицынского "Первого круга"). "Некоторые люди в спорах, но очень редко на деле ссылаются па заповедь Спасителя о том, что следует подставить другую щеку обидчику. Но в этой заповеди речь идет об оскорблении, а не об убийстве. Когда же на христианина нападают с оружием, он по праву дает отпор нападающей стороне, - писал он. - Спаситель вовсе не требует, чтобы человек безропотно сносил удары, и разрешает ему благородную борьбу... Отнять жизнь у человека допустимо лишь в крайних обстоятельствах и только в открытом бою, во время войны, или поединка..." (*) Но, оставляя в стороне вопрос о поединке (ибо и в дуэли побеждает не всегда правый, а иногда, увы, виноватый), заметим, что война - не столкновение одного человека с другим, напавшим на него с оружием в руках. Войну объявляет государство, и тут опять возникает вопрос, встававший перед Солженицыным еще в "Первом круге" и "Архипелаге" и так и не решенный им в "Красном колесе" (и "Декабристах без декабря"). На стороне какого государства должен воевать и убивать людей полковник Воротынцев: на стороне красных или белых, Сталина или Гитлера? (* Панин Д. Теория густот. Опыт. философии конца XX в. Париж, 1982. С. 121-122. *) Для Толстого была очевидна разница между личной, индивидуальной ответственностью человека за свои поступки и тем, что считается обычно племенной, родовой, национальной ответственностью. В статье "В чем моя вера" Толстой обратил внимание на явное противоречие в христианском учении, опирающемся как на Новый, так и на Ветхий завет. Ветхий завет повелевает: "Люби ближнего твоего как самого себя" (Левит, XIX, 18) - и вместе с тем призывает к борьбе с врагами и содержит множество примеров такой борьбы. В Нагорной проповеди Христос, заявляя, что "ни одна йота или не одна черта" ветхозаветного закона не может быть нарушена, отступает от этого закона в одном случае. "Вы слышали, что сказано "люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А я говорю вам: любите врагов ваших..." (Матф., V, 17-18, 43-44). Справившись со словарями и контекстом Библии, Толстой убедился, что ""ближний" на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности... Стоит только понимать слово враг в смысле врага народного, и ближнего - в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было... И он говорит: вам сказано, что следует любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различения той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое главное затруднение - как понимать: любите врагов ваших. Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих" (23, 364-365). Перед нами - те же идеи, которые излагал Толстой в статьях "Христианство и патриотизм", "Патриотизм или мир?" и "Патриотизм и правительство". Основные возражения против идей, высказанных Толстым в этих работах, сводятся обычно к защите понятия "патриотизм". Даже наиболее снисходительные критики Толстого требовали и требуют разграничения понятия "патриотизм", "национализм" и "шовинизм". Термины вообще вещь условная, и, чтобы не задевать ничьих чувств, можно было бы именовать "патриотизмом" любовь к родному языку, родной культуре и вообще желание "своему народу и государству настоящих благ, таких, которые бы не нарушали прав других народов". Огромное большинство людей привыкло к своему языку и культуре и вполне естественно заинтересовано в ее судьбе больше, чем в другой. Привязанность к культуре, литературе, обычаям того или иного народа, интерес к его судьбе - нормальное человеческое свойство; чаще всего эта привязанность обращается на культуру того народа, среди которого человек вырос. Если патриотизм понимать в этом твердо определенном и ограниченном смысле, то, естественно, он не противоречит человеческой нравственности. Как заметил Толстому его друг-англичанин, "хороший... патриотизм... - состоит в том, чтобы англичане, его соотечественники, не поступали дурно. - Разве вы желаете, чтобы не поступали дурно только одни англичане? ~ спросил я. - Я всем желаю этого! - ответил он, этим ясно показав, что свойства истинных благ... по существу своему таковы, что они распространяются на всех людей". Но обычное понимание "патриотизма", отмечал Толстой, это нечто совсем иное: желание равных благ всем народам "не только не есть патриотизм, но исключает его..." (90, 426). Александр Исаевич Солженицын отрекался от обвинения в национализме, настаивая на том, что он не националист, а патриот (*). И он же раздумывал, виноваты ли мы перед чехами за оккупацию 1968 г., если они не спасли Колчака в 1919 г., и ответственны ли мы перед латышами за захват Латвии, поскольку многие латыши участвовали в большевистской революции. Видимо Толстой все же не без основания полагал, что "действительный патриотизм, который мы все знаем", противопоставляет свой народ другим, строится на представлении о нации, как о клане, члены которого связаны общими обязательствами и ответственностью. (* Пророк России в ссылке. Интервью А. Солженицына корреспонденту газеты "Тайм" Давиду Айкману // Литератор. 1990. No 90 (35), 17 авг. *) Чтобы оправдать предпочтение своего народа, люди часто прибегают к метафорам: "патриотизм" приравнивается к любви к матери или к жене, которых люди любят, даже если видят их недостатки - эта привязанность не мешает им любить и других. Но здесь опять вспоминается "Архипелаг Гулаг": "И как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже - бросила собакам? - Разве она остается матерью? Если жена пошла по притонам - разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам, разве это Родина?" (АГ, 1, 226). Именно такой родиной стала для солженицынского Воротынцева Россия после 1917 года. Но возьмем даже более благополучные примеры - когда родина не предает своих сынов. Правильно ли вообще подобное метафорическое уподобление - любви к отдельному человеку и любви к стране? Когда мы говорим, что любим человека N, это утверждение логически предполагает, что к другому человеку Х мы не испытываем такого чувства, а третьего человека Y мы вправе вовсе не любить и даже испытывать к нему антипатию. Однако, если мы отождествляем отношение к человеческому множеству с отношением к отдельному человеку, мы предполагаем ту же логическую операцию: мы любим народ N, равнодушны к пароду X, а народ Y не любим или, по крайней мере, вправе не любить. Но отождествлять отношение к целому множеству с отношением к отдельному человеку - это и значит исходить из клановой психологии: отвергать целый народ из-за несимпатичных нам свойств его отдельных представителей. В своей нравственной оценке "патриотизма" в его обычном понимании Толстой был прав. Гораздо более уязвимой была позиция Толстого, когда он обращался к проблеме патриотизма и национализма не с нравственной, а с исторической точки зрения. "Скажут: "патриотизм связал людей в государства, дело это поддерживает единство государств". Но ведь люди уже соединились в государства, дело это совершилось..." - писал он (90, 48). Здесь Толстой рассуждал, как человек конца XIX в., живший в более или менее стабильной Европе и Российской империи. Опыт XX века показал, что "соединение в государства", осуществленное в XIX в., было эфемерным. Первая мировая война разрушила Австрийскую и Турецкую империи, перекроила границы Европы, Азии и Африки, создав новые государства, и уничтожила бы и Российскую империю, если бы ее новым хозяевам, провозгласившим лозунг "интернационализма", не удалось временно восстановить почти всю империю под иным названием. Ныне и "Союз нерушимый" распался на наших глазах. Патриотизм, национализм, шовинизм реальные факты истории XX столетия вплоть до его последних лет. Говоря о злодействах нашего века, люди обычно вспоминают два его источника национальный и социальный антагонизм. В последние годы, в связи с общим разочарованием в коммунизме, провозглашавшем идею классовой борьбы, русские авторы охотнее всего обличают именно классовый антагонизм. Но обе мировые войны XX века велись не под социальными, а под национальными лозунгами. Троцкий или Тухачевский могли мечтать в 1920 г. о мировой классовой войне, но уже "чудо на Висле" похоронило эти мечты. Вторая мировая война затевалась как война чисто национальная: оба ее инициатора, Гитлер и Сталин, начали именно с планов расширения своих державных территорий. Даже когда они вступили в борьбу между собой и началась та часть войны, которую в нашей стране привычно считают отдельной, Великой Отечественной войной (по образцу Отечественной войны 1812 г., столь же произвольно отделяемой от войн европейских монархий с Францией), ни о каких классовых лозунгах не было и речи: война велась под знаменами "великих предков". В России первых трех десятилетий века идея классовой борьбы действительно принесла больше крови, чем идея борьбы национальной, - именно поэтому русские публицисты вспоминают о ней куда чаще, чем о национальной идее, но и внутри страны идея интернационализма фактически была отвергнута уже в 30-х годах (когда репрессировали финнов, поляков, корейцев) и была совсем забыта ко времени второй мировой войны. Высылка народов и дискриминация в 40-х гг. проводилась не по классовому, а по национальному признаку. Означает ли это, что важнейшая роль национальной идеи, недооцененная Толстым и другими мыслителями XIX в., доказала в XX в. свою правоту и неодолимость? Именно об этом писал Солженицын в сборнике "Из под глыб". Для подтверждения этой неодолимости писатель даже прибег к термину из несвойственного ему "птичьего языка" - по его мнению, XX век обнаружил, что "человечество... отчетливо квантуется нациями" (*). Употребляя то же выражение, можно сказать, что в нашем веке люди не только "квантуются" по этому признаку, но в значительной степени и "доквантовались" - в двух мировых войнах, в Освенциме, в Сумгаити, в нынешних бесконечных кровопролитиях на окраинах бывшего Советского Союза и в Югославии. Но доказывает ли это правоту национальной идеи? Ведь и по социальному признаку люди "квантовались" в нашем веке немало - но ныне едва ли кто-либо видит в этом нравственное оправдание классового взаимоистребления. И национальный и классовый террор строятся на одной и той же посылке, несовместимой с классовыми принципами, как их понимал Толстой: на идее ответственности человека за поступки за поступки, совершенные не им лично, а представителями той группы людей, к которой он причислен, - на идее клановой мести. (* Солженицын А.И. На возврате дыхания и сознания // Из под глыб. YMCA-PRESS, 1974. С. 19. *) Вправе ли человек, претендующий на решение религиозных, нравственных вопросов, руководствоваться гегелевским (да еще и сильно вульгаризованным по сравнению с источником) принципом: "Все действительное - разумно"? Не следует ли ему скорее принять то разграничение, к которому пришел Толстой, начиная с "Войны и мира" и кончая своими поздними сочинениями: разграничение между историческим процессом, совершающимся стихийно и не подчиняющимся воле отдельных людей, и нравственными принципами, к которым уже давно пришло человечество? Это разграничение в большинстве случаев не ощущали не только многочисленные критики Толстого, но и люди, считавшие себя его последователями, например, Валентин Булгаков. В своей брошюре "Толстой, Ленин, Ганди" он провозглашал своеобразный синтез учений этих трех деятелей XX века. Он предлагал соединить Толстовскую систему нравственности, ленинскую "борьбу за освобождение трудящихся масс" и учение Ганди, поскольку тому "удалось быть зачинателем на открывающихся человечеству новых путях безнасильственной, мирной духовной революции" (*). Этот своеобразный синтез, немного напоминающий мечты гоголевской героини об идеальном сочетании свойств ее женихов, свидетельствует о том, что последний секретарь Толстого, хорошо усвоивший его нравственное учение, плохо помнил исторические рассуждения в "Войне и мире". Даже если бы Толстой принял ленинскую идею "сознательного, энергического усилия" для освобождения трудящихся и присоединил бы к ней общие Толстому и Ганди идеи "безнасильственной мирной революции", осуществить такую безнасильственную революцию он не смог бы. Толстой понимал это уже в 60-х годах XIX в., и еще лучше понял после 1905 г. (* Булгаков В. Толстой, Ленин, Ганди. Прага, 1930. С. 48-49. *) Индивидуальные (и групповые) усилия не способны определить направление "роевого движения" масс. Это "роевое движение", интегрирующее бесчисленные "однородные влечения" людей, так же неотвратимо, как явления природы, - как землетрясения, извержения вулканов, грозы, смена времен года. Именно поэтому совершенно бессмысленны декларации людей, прозревших в наше время после многолетней веры в коммунистические идеалы, - лояльных советских граждан. Раньше они любили революцию, сегодня - возненавидели. Столь же осмысленны были бы их объяснения в любви или ненависти к грозам и другим природным явлениям. Для горожанина средней полосы проливной дождь - чаще всего досадное явление, для крестьянина, думающего об урожае, он может быть и желательным и несвоевременным. Но при любых стремлениях вызвать такие явления пока еще никому не удавалось. Мы знаем только, что явления природы переменчивы, и винить революцию в том, что после первоначального "Христова воскресенья" часто наступает террор или реакция, так же абсурдно, как осуждать весну за то, что за ней следует летняя жара, осенние дожди и зимние морозы. Исторические катаклизмы сходны с природными явлениями. Но человек не бессилен перед лицом природы. Можно строить антисейсмические сооружения, защищать население от разрушительного действия извержений вулкана, учитывать (и даже предвидеть) перемены погоды и принимать меры к тому, чтобы они принесли не вред, а, по возможности, пользу. Точно так же человек не может двигать историю, но он может с той или иной успешностью двигаться в истории. Люди, декларирующие сегодня свою ненависть к революции, не просто совершают логическую ошибку. Речь идет о проблеме, имеющей немалое практическое значение. Если отвергать революции прошлого из-за того, что после них наступал якобинский или большевицкий террор, то столь же последовательно отвергнуть и нашу "весну" в августе 1991 г., ибо за нею последовало не всеобщее благоденствие, а тяжкий экономический кризис и гражданские войны на окраинах бывшего Союза. И люди, для которых сопротивление путчу и диктатуре было лишь временной уступкой массовым настроениям, ныне отрекаются от былого энтузиазма. Толстой никогда не выражал романтического восторга перед революцией. Но он выступал не против революции, а против людей, воображавших, что они ее "делают". Сам же он считал, что "революция состоит в замене худшего порядка лучшим. И замена эта не может совершиться без внутреннего потрясения, но потрясения временного" (36, 488). Ганди переписывался с Толстым (ср. 80, No 149, 110; 81, No 318, 247; 82, No 178, 137-140) и считал себя его учеником (*), но в отличии от Толстого, Ганди был не только проповедником, но и политиком. Он страшился "охлократии" - самоуправства черни - и принимал героические усилия (прибегая даже к голодовкам) для того, чтобы удержать свой народ от насилия. Но он отлично понимал, что в реальной жизни принцип непротивления злу насилием не осуществим или осуществим далеко не всегда. До конца первой мировой войны Ганди добивался лишь равноправия индийского населения в Южной Африке и самоуправления Индии в пределах Британской империи (сваражд). Именно поэтому он помогал англичанам в англо-бурской и первой мировой войне. На письмо В. Г. Черткова 1928 г., упрекавшего Ганди за это участие, он отвечал, что "убеждения - это одно, а реальная практика - другое", что он сделал все для сохранения мира, но что "мы настолько слабы", что "ненасилие" "трудно для понимания, еще труднее на практике"; "бесполезно рассуждать, поступил ли бы Толстой на моем месте иначе, чем я" (**). Сложной была его позиция и во время второй мировой войны. К этому времени надежды на самоуправление Индии под британской властью были в значительной степени поколеблены, но сочувствовать врагам Великобритании Ганди не мог. Когда вторая мировая война началась, Ганди в принципе был на стороне демократических стран - Англии и Франции (***), но он уже выступал за полную независимость Индии, и в 1942 г. был интернирован британскими властями, проведя основную часть войны в заключении. В конце жизни Ганди посчастливилось увидеть осуществление главной своей мечты - освобождение Индии от английской власти (хотя и с отделением Пакистана). Но считать это освобождение делом его рук, осуществлением его "безнасильственной, мирной революции", едва ли возможно. Сама борьба Ганди за освобождение велась в иных условиях, чем борьба русских революционеров или советских диссидентов против тиранической власти, и возможность сравнительно удачного исхода этой борьбы определялась не только ее "ненасильственным" характером, но и тем, что противником освобождения Индии была страна, пришедшая - в ходе своей длительной и далеко не мирной истории к строю, дававшему возможность легальной борьбы с государством. Не менее важным было и то, что Англия к этому времени была значительно ослаблена второй мировой войной, которую она вела с Гитлером в течение всех шести лет (и частично - в полном одиночестве). Это была уже не Британская империя, владычица морей, а сильно ослабленное государство. (* Ср.: Литературное наследство. М., 1939. Т. 37-38. С. 339-352; Green Martin. Tolstoy and Gandhi, Men of Peace. N. Y., 1983. P. 85-97. *) (** Gandhi M. K. Non-violence in Peace and War. Ahmedabad, 1942, No 30. P. 101-103; No 32. P. 108-113; No 40. P. 140. **) (*** Gandhi M. K. Non-violence, N 83. P. 294; N 89. P. 318. ***) И этот последний факт в значительной степени объясняет, почему "ненасильственные" методы борьбы с государством оказываются в ряде случаев более осуществимыми в XX веке, чем в прежние времена. При жизни Толстого государственная власть не только в России, но и в демократических странах (которыми в XIX в. были почти исключительно отдельные страны Западной Европы и Америки) была еще чрезвычайно сильной; очень велика была и социальная дифференциация в этих странах. Именно поэтому Толстой не видел существенной разницы между демократическими и деспотическими режимами; он выступал против государства вообще. Но в XX веке, параллельно с установлением и падением тоталитарных режимов, происходили важные изменения и в характере государственной власти демократических стран. Значительно либерализовалась пенитенциарная система; широко распространилась система условного освобождения из тюрем; психические больные, не представляющие серьезной опасности для окружающих, получили возможность выйти на свободу. Государственная власть стала не столько более гуманной, сколько менее могущественной. В некоторых странах гражданам рекомендуется "непротивление злу силой" в тех случаях, когда они имеют дело с уличными грабителями или хулиганами. Пилоты самолетов, захваченных пиратами, не имеют права оказывать вооруженного сопротивления (дабы не подвергать пассажиров риску катастрофы в воздухе), а должны следовать курсом, предписанным захватчиками. Так, довольно необычно (и не всегда удобно для граждан) стала осуществляться толстовская идея "ненасилия". И параллельно этому во многих странах была принята мера, за которую ратовал Толстой: отмена смертной казни. Перестав быть всесильными, демократические государства поневоле стали более нравственными. Войны XX века, принесшие гибель миллионам людей, имели одно немаловажное последствие - они в значительной степени развеяли романтическое представление о войне как о благородном призвании, и убедили миллионы людей, что война - величайшее несчастье, которое, вопреки Достоевскому, "зверит и ожесточает человека" больше, чем мирная, даже рутинная и обывательская жизнь. Уже в полемике с И. Ильиным в 1928 г. З. Гиппиус отмечала, что "мы... к войне относимся не совсем по-прежнему", что уже "последняя европейская война" "вызывала столько сомнений", и люди настойчиво искали "ее "виновника", первого "поднявшего" меч" (*). Те же настроения, но гораздо более сильные, возникли после второй мировой войны. (* Гиппиус З. Меч и крест // Современные записки. 1926. Кн. XXVII, С. 362. *) В 1990-1991 гг. американский президент, вступивший по решению Организации Объединенных Наций в войну с Ираком, захватившим соседний Кувейт, имел полную возможность довести эту войну до логического конца: свергнуть Саддама Хусейна и освободить Ирак от диктатора. Но он не сделал этого - не потому, что проникся идеями "ненасилия", а потому, что должен был считаться с позицией мусульманских и других стран, которые сочли бы дальнейшую войну после освобождения Кувейта захватнической. Ослабление авторитарных режимов принудило и их стать менее воинственными. Горбачев, проиграв войну в Афганистане, не смог воспротивиться революциям в Восточной Европе и разрушению берлинской стены не потому, что он внезапно стал поборником справедливости (он дал достаточно доказательств противоположного), а потому, что не имел сил противостоять этому движению. Наряду с центробежными тенденциями "квантующихся" наций, XX век обнаружил все более усиливающиеся центростремительные тенденции. Стремлению к международному единству во многом содействует появление таких средств связи, каких не знали предшествующие века. Уже Толстой, использовавший герценовский образ самодержавия, как "Чингис-Хана с телеграфом", писал, что "железные дороги, телеграфы, пресса" оказываются не только "могущественным орудием" в руках "Чингис-Хана", но и "соединяют людей в одном и том же сознании", противостоящем "Чингис-Хану", вследствие чего народ "не может быть уже принужден повинов