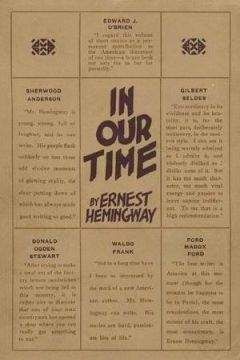Эрнест Хемингуэй - Старый газетчик пишет...
В тот день, когда свыше трехсот снарядов было выпущено по Мадриду и центр города превратился в усеянную осколками стекла, засыпанную кирпичной пылью, дымящуюся бойню, Ипполито поставил машину под прикрытие высокого здания в узком переулке возле отеля. Место казалось вполне надежным и, посидев немного в моей комнате, глядя, как я работаю, и окончательно соскучившись, он сказал, что сойдет вниз и сядет в машину. Не прошло и десяти минут, как шестидюймовый снаряд попал точно в угол, образуемый стеной отеля и тротуаром. Он глубоко вошел в землю и не разорвался. Разорвись он — того, что осталось бы от Ипполито и машины, не хватило бы на фотографический снимок. Они находились в пятнадцати футах от того места, где упал снаряд. Я выглянул в окно, увидел, что все благополучно, и сбежал вниз.
— Ну как? — Сознаюсь, я несколько задыхался.
— Отлично, — сказал он.
— Отведите машину поглубже в переулок.
— Глупости, — сказал он. — И в тысячу лет сюда больше не попадет ни один снаряд. А кроме того, он не разорвался.
— Отведите машину поглубже в переулок.
— Что с вами? — спросил он. — Испугались?
— Надо быть благоразумным.
— Идите работать, — сказал он. — Не беспокойтесь обо мне. Подробности этого дня несколько путались в моей памяти, ибо после девятнадцати дней непрерывного обстрела из тяжелых орудий события одного дня легко перемещаются в другой, но во втором часу огонь прекратился, и мы решили пойти пообедать в отель «Гран-Виа», кварталах в шести от нас. Я хотел добраться туда крайне извилистым и весьма надежным путем, используя углы наименьшей опасности, но Ипполито спросил меня:
— Куда вы идете?
— Поесть.
— Садитесь в машину.
— Вы с ума сошли.
— Садитесь, мы проедем по Гран-Виа. Огонь прекратился. Они тоже обедают.
Мы вчетвером сели в машину и поехали по Гран-Виа. Улица была сплошь покрыта осколками стекла. На тротуарах зияли глубокие воронки. Много зданий было разрушено, и для того, чтобы попасть в ресторан, нам пришлось обойти груду щебня и обвалившийся каменный карниз. Ни души не было на этой улице, обычно столь же оживленной, как Пятая авеню и Бродвей, вместе взятые. Было много мертвых. Других машин, кроме нашей, не было видно.
Ипполито поставил машину в переулке, и мы все вместе пообедали. Мы еще не кончили есть, как Ипполито встал из-за стола и ушел к машине. Снова послышались взрывы — в ресторане, помещавшемся в подвале, они звучали глухо, — и, когда, пообедав гороховым супом, тоненькими, как бумага, ломтиками колбасы и апельсином, мы поднялись наверх, улица была в дыму и тучах пыли. По всему тротуару валялись свежие обломки бетона. Я заглянул за угол, где стояла наша машина. Переулок сплошь был усеян щебнем, снаряд только что пробил стену как раз над машиной. Я увидел ее. Она была покрыта пылью и щебнем.
— Боже мой, — сказал я. — Ипполито убили.
Он лежал, закинув голову, на сиденье шофера. Я подошел к нему, и на душе у меня было скверно. Я очень полюбил Ипполито.
Ипполито мирно спал.
— Я думал, вы убиты, — сказал я. Он открыл глаза и зевнул, прикрывая рот рукой.
— Чепуха, — сказал он. — Я всегда сплю после обеда, если только есть время.
— Мы идем в бар Чикоте, — сказал я.
— А там хороший кофе?
— Превосходный.
— Ну, садитесь, — сказал он, — поедем.
Перед отъездом из Мадрида я хотел дать ему денег.
— Я от вас ничего не возьму, — сказал он.
— Возьмите, — настаивал я. — Ну возьмите. Купите что-нибудь своей семье.
— Нет, — сказал он, — не возьму. А правда, хорошо мы провели время?
Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или на Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито.
Все храбрые
Год тому назад мы были вместе, и я спросил Луиса, как его студия и целы ли его картины.
— Все погибло, — сказал он без горечи и объяснил, что бомбой разворотило здание.
— А большие фрески в Университетском городке и Каса-дель-Пуэбло?
— Пропали, — сказал он. — Все — вдребезги…
— Ну, а фрески для памятника Пабло Иглесиаса?
— Уничтожены, — сказал он. — Нет, Эрнесто, давай лучше не говорить об этом. Когда у человека гибнет вся работа его жизни, все, что он сделал за свою жизнь, — лучше об этом не говорить.
Картины, уничтоженные бомбой, и фрески, разбитые артиллерийскими снарядами, искромсанные пулеметным огнем, были великими произведениями испанского искусства. Луис Кинтанилья, писавший их, был не только большим художником, но и большим человеком.
Когда фашисты напали на ту Республику, которую он любил и в которую верил, он повел наступление на казармы Монтана и спас Мадрид для республиканцев. Потом, изучал по ночам военные книги и командуя днем воинской частью, он сражался среди сосен и серых скал Гвадаррамы и в желтой долине Тахо, на улицах Толедо и снова на окраинах Мадрида, где люди с винтовками и ручными гранатами шли против танков, артиллерии и самолетов и умирали за то, чтобы их родина была свободной.
Но так как хороших художников меньше, чем хороших солдат, испанское правительство отозвало Кинтанилью из армии, когда фашистов остановили у Мадрида. Он выполнял различные дипломатические поручения и потом вернулся на фронт, чтобы сделать эти рисунки. Это — рисунки о войне. На них надо смотреть, а не писать о них в предисловии.
Можно многое сказать о Кинтанилье, но его рисунки говорят сами за себя.
10 марта 1938 г., Ки-Уэст
IIЯ написал это, а 18 марта уехал в Испанию. Мистер Поль Эллиот, который был знаком с работами Кинтанильи много лет и гораздо лучше меня мог о них писать, согласился дать длинное критическое предисловие. Я обещал дать краткое предисловие, слов на тысячу или даже меньше.
На пароходе, в пути, я пытался писать, но это было невозможно. Я убедился, что все свои мысли о Луисе Кинтанилье я уже высказал в трехстах четырнадцати словах, и перед лицом того, что тогда делалось в Испании, остальная тысяча слов никак не выходила. Я не особенно беспокоился об этом, зная, что, даже если я никогда не смогу написать другого предисловия, это — короткое — останется и, кроме того, Пол Эллиот даст прекрасную длинную вступительную статью. А потом, конечно, самое главное — это рисунки Луиса.
Были дни в марте и апреле, когда дела в Испании шли очень плохо… Часто бывали дни, когда казалось, что прежде, чем победа осуществится, очень многие из нас будут вообще освобождены от всякой необходимости писать какие бы то ни было предисловия.
И вот в один из таких дней, в один из самых худших таких дней, я получил каблограмму из Нью-Йорка, сообщавшую, что если издательство не получит предисловия к определенному числу, оно расторгнет договор. В ту ночь я написал предисловие и отослал его. Вот оно.
Это замечательные рисунки. Кинтанилья — большой испанский художник и старый мой друг. Он сражался в революцию и сражался в гражданскую войну. Мне бы следовало сейчас сидеть за машинкой и писать о том, какой это большой художник, человек, боец и революционер. Но машинка что-то не очень хорошо работает сегодня вечером.
Поль Эллиот напишет вам подробно о большом художнике Кинтанилье, а я могу засвидетельствовать, что все его произведения уничтожены. Я видел, в какие развалины бомба превратила его студию, и видел, что сделал артиллерийский и пулеметный огонь с его фресками в Университетском городке. Они погибли, навеки погибли вместе со многими другими вещами, вместе с очень и очень многими другими вещами. Что тут можно поделать? Ничего. Можно замолчать и забыть. Кинтанилья так и сделал. И кроме того, он продолжал работать.
Вот если бы сейчас я писал при трех свечах вместо двух, предисловие, вероятно, вышло бы веселее и бодрее. Нужно хорошее освещение для писания предисловий. Донесения можно писать при любом освещении, но для предисловий нужно и освещение получше, и времени побольше. Так что, если кому-нибудь это предисловие не понравится, — пусть напишет свое, а я с удовольствием подпишусь за него.
Тут в предисловии должно быть литературное отступление о том, что значит для человека, когда работа всей его жизни уничтожена. Вот мы и пропустим литературное отступление и будем считать, что никто не думает, будто это приятно, когда вся работа, какую человек сделал за всю свою жизнь, уничтожается. Правильно или нет?
Будем считать доказанным, что это — несчастье.
Ну, что же дальше идет в предисловии? Да, разумеется, вот что: сравнение с Гойей. Давайте и это пропустим. Хватит людей, которые будут делать это сравнение без того, чтобы мы писали о нем в предисловии, а свечи становятся все короче.
Так о чем же дальше писать в предисловии к сборнику рисунков о войне? Конечно, тут должно быть что-нибудь и о самой войне.
— Ваше мнение о войне, мистер Хемингуэй?